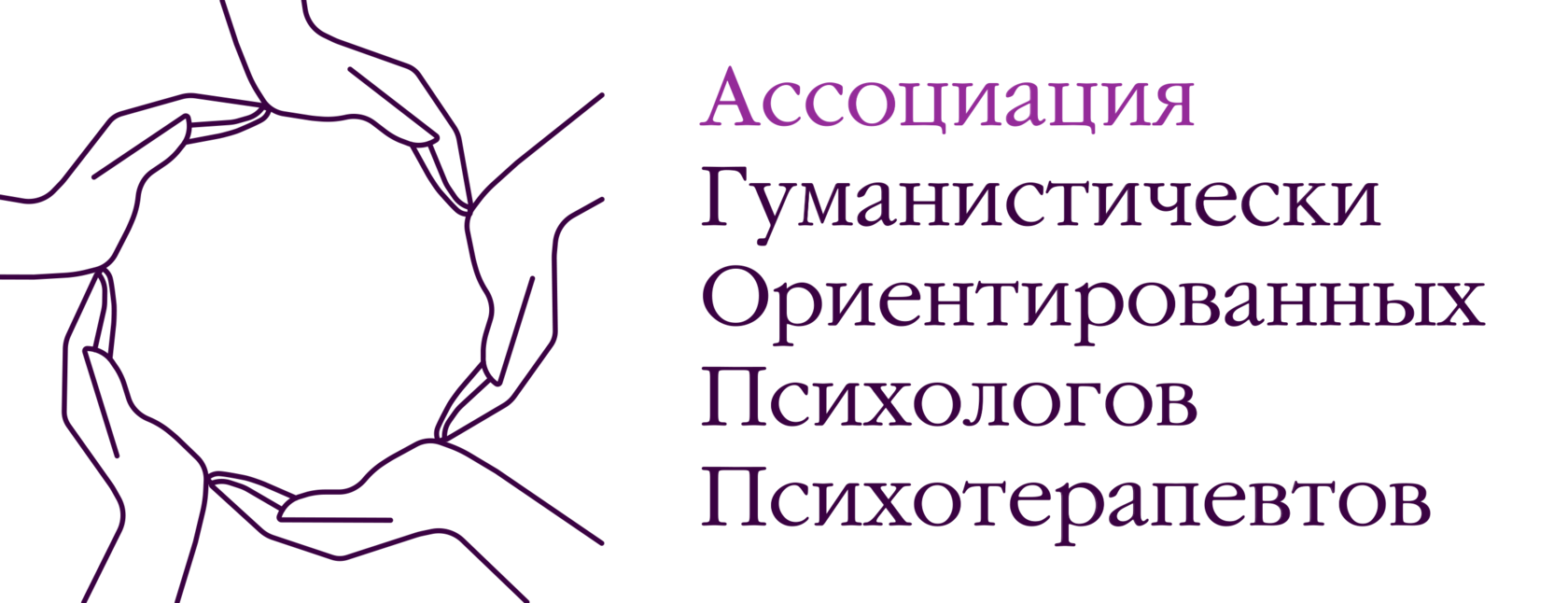автор : Анастасия Дивеева
МИФЫ О ФИЗИЧЕСКИХ НАКАЗАНИЯХ
..нас били и ничего, выросли..
..по - другому не доходит..
..вырастет - спасибо скажет..
..по - другому не доходит..
..вырастет - спасибо скажет..
СТАТИСТИКА
Несмотря на то, что право ребёнка на защиту от насилия закреплено во многих международных конвенциях и национальных законах, миллионы детей ежедневно сталкиваются с физическим насилием — часто под предлогом «необходимых мер воспитания», «заботы» или даже «любви»..
По данным ЮНИСЕФ (2023), каждый второй ребёнок в мире — это около 1 миллиарда детей — подвергался хотя бы одной форме насилия дома.
Более 75% детей в возрасте 2–4 лет регулярно испытывают так называемые "дисциплинарные меры" : крики, шлепки, пощёчины или удары предметами и т.д..
В странах Восточной Европы и Центральной Азии, по отчётам Save the Children и ЮНИСЕФ, уровень физического наказания детей в домашних условиях колеблется от 30 до 70%, в зависимости от культуры, религиозных традиций и уровня осведомлённости родителей.
В Российской Федерации, по данным ВЦИОМ (2022), более 40% родителей признают, что применяли физические наказания к ребёнку. Из них почти треть уверены, что "иногда это необходимо", "в легких наказаниях нет ничего такого".
В то же время, по данным Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, каждый пятый подросток сталкивался с систематическим насилием в семье.
Отдельный тревожный показатель: большинство случаев насилия остаются вне поля зрения системы безопасности — не фиксируются в полиции, не доходят до служб опеки, не становятся известны педагогам, психологам и в целом окружающим. Насилие остаётся невидимым, происходит за закрытыми дверями, а значит — продолжается..
Несмотря на то, что право ребёнка на защиту от насилия закреплено во многих международных конвенциях и национальных законах, миллионы детей ежедневно сталкиваются с физическим насилием — часто под предлогом «необходимых мер воспитания», «заботы» или даже «любви»..
По данным ЮНИСЕФ (2023), каждый второй ребёнок в мире — это около 1 миллиарда детей — подвергался хотя бы одной форме насилия дома.
Более 75% детей в возрасте 2–4 лет регулярно испытывают так называемые "дисциплинарные меры" : крики, шлепки, пощёчины или удары предметами и т.д..
В странах Восточной Европы и Центральной Азии, по отчётам Save the Children и ЮНИСЕФ, уровень физического наказания детей в домашних условиях колеблется от 30 до 70%, в зависимости от культуры, религиозных традиций и уровня осведомлённости родителей.
В Российской Федерации, по данным ВЦИОМ (2022), более 40% родителей признают, что применяли физические наказания к ребёнку. Из них почти треть уверены, что "иногда это необходимо", "в легких наказаниях нет ничего такого".
В то же время, по данным Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, каждый пятый подросток сталкивался с систематическим насилием в семье.
Отдельный тревожный показатель: большинство случаев насилия остаются вне поля зрения системы безопасности — не фиксируются в полиции, не доходят до служб опеки, не становятся известны педагогам, психологам и в целом окружающим. Насилие остаётся невидимым, происходит за закрытыми дверями, а значит — продолжается..
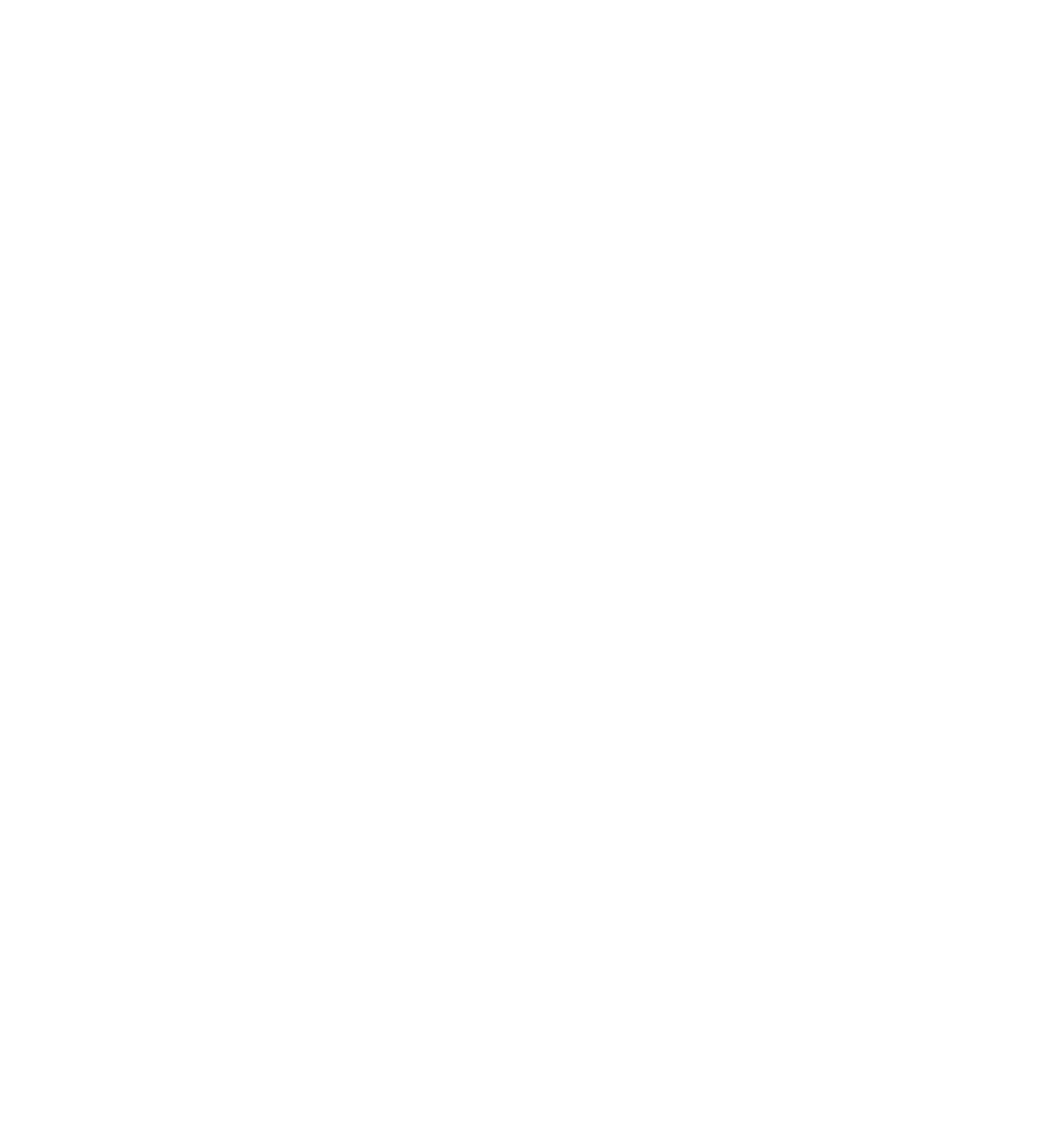
Современная наука оставляет мало места для сомнений. Нейробиология четко показывает : физический удар, унижение, разделение с значимыми взрослыми, изоляция (тайм - ауты), унизительные оскорбления, лишение удовлетворения базовых потребностей - формы насилия - запускающие в мозге ребенка экстремальную стрессовую реакцию и целый каскад опасных для нервной системы ребенка последствий:
Экстремальный стресс, пережитый ребёнком из за внешней угрозы влияет на архитектуру развивающегося мозга, повышая риски тревожных, депрессивных, психосоматических расстройств, агрессии и различных форм зависимостей.
О влиянии экстремального стресса на развитие ребенка и его последующую жизнь Вы можете почитать в исследованиях ACE.
Помимо физических, существуют и психологические формы насилия. Отсутствие синяков не отменяет их разрушительной силы. Систематические эмоциональные качели (за хорошее поведение — приближаю, за плохое — отдаляю), манипуляции потребностями («заработал» — получuл, «провинился» — лишился), унизительное отношение (обесценивание, сравнение) могут довести до психического расстройства или суицида даже взрослого. Что уж говорить о ребёнке?
Ежегодно в России тысячи детей и подростков совершают два самых трагичных поступка: уходят из дома или из жизни. За этими разными действиями часто стоит одна причина — попытка сбежать от невыносимой домашней реальности. Побег — это отчаянная попытка найти спасение вовне, когда что угодно кажется лучше родного дома. Суицид — это окончательный уход, когда вера в спасение исчерпана и единственным выходом из боли видится прекращение существования.
Скольким детям приходится делать этот страшный выбор из-за того, что творится за закрытыми дверями их квартир? Точной цифры не назовёт никто. Слишком многое остаётся в тени стыда, страха и общественного замалчивания. Однако доступные данные рисуют однозначную и шокирующую картину. Из десятков тысяч несовершеннолетних, ежегодно объявляемых в розыск как «самовольно ушедшие», подавляющее большинство бегут не за приключениями, а от отчаяния. Они бегут от скандалов, побоев, унижений и того эмоционального опустошения, которое несёт с собой домашнее насилие, в том числе иногда позиционируемого как "воспитание".
- гиперактивацию миндалевидного тела в мозге (отвечающую за тревожность)
- высокий уровень кортизола
- критическое снижение функций префронтальной коры (отвечающих за контроль и способность анализировать происходящее)
Экстремальный стресс, пережитый ребёнком из за внешней угрозы влияет на архитектуру развивающегося мозга, повышая риски тревожных, депрессивных, психосоматических расстройств, агрессии и различных форм зависимостей.
О влиянии экстремального стресса на развитие ребенка и его последующую жизнь Вы можете почитать в исследованиях ACE.
Помимо физических, существуют и психологические формы насилия. Отсутствие синяков не отменяет их разрушительной силы. Систематические эмоциональные качели (за хорошее поведение — приближаю, за плохое — отдаляю), манипуляции потребностями («заработал» — получuл, «провинился» — лишился), унизительное отношение (обесценивание, сравнение) могут довести до психического расстройства или суицида даже взрослого. Что уж говорить о ребёнке?
Ежегодно в России тысячи детей и подростков совершают два самых трагичных поступка: уходят из дома или из жизни. За этими разными действиями часто стоит одна причина — попытка сбежать от невыносимой домашней реальности. Побег — это отчаянная попытка найти спасение вовне, когда что угодно кажется лучше родного дома. Суицид — это окончательный уход, когда вера в спасение исчерпана и единственным выходом из боли видится прекращение существования.
Скольким детям приходится делать этот страшный выбор из-за того, что творится за закрытыми дверями их квартир? Точной цифры не назовёт никто. Слишком многое остаётся в тени стыда, страха и общественного замалчивания. Однако доступные данные рисуют однозначную и шокирующую картину. Из десятков тысяч несовершеннолетних, ежегодно объявляемых в розыск как «самовольно ушедшие», подавляющее большинство бегут не за приключениями, а от отчаяния. Они бегут от скандалов, побоев, унижений и того эмоционального опустошения, которое несёт с собой домашнее насилие, в том числе иногда позиционируемого как "воспитание".
Несмотря на публикации и исследования, ежегодные отчёты ВОЗ, доступность книг по детской и возрастной психологии, статьи в популярных журналах и авторитетные голоса учёных, многие из нас упорно отказываются пересматривать свои убеждения.
Нам не хочется называть вещи своими именами, признавать "педагогическое бессилие" и собственные травмы. Мы отрицаем причиняемый вред и упорно продолжаем называть насилие : «наказаниями в воспитательных целях».
Любопытно, но за всю свою практику работы с родителями, которые считали удары и оскорбления допустимыми и эффективными для коррекции поведения, я не встретила ни одного, кто бы сам захотел, чтобы за его ошибки, невыполненные обязательства или нарушенное слово его избивали в качестве «метода воздействия».
Мы, взрослые, не проработали бы и дня на месте, где начальник избивал бы нас ремнём «с самыми лучшими намерениями» — чтобы мы стали в будущем хорошими сотрудниками. У психически здорового человека подобная ситуация вызвала бы что угодно — гнев, протест, страх, — но только не раскаяние в срыве дедлайна и не желание стараться ещё больше.
Когда у нас, взрослых, есть доступ к ресурсам, автономия и социальные навыки, мы не станем терпеть насилие ни в какой форме — даже под предлогом «развития».
Впрочем, и у взрослых порой возникают ситуации, когда они остаются в отношениях, где присутствует насилие. Это может быть связано с угрозой жизни и необходимостью выжить (плен, жизнь с вагом, физическая зависимость) или с психологической зависимостью (абьюзивные, созависимые отношения). Человек, сломленный физически или морально, может переживать выученную беспомощность, не зная, что у него есть выбор, и не видеть способа разорвать этот круг насилия.
Дети в своей изначальной позиции зависимы: они не обладают ресурсами, не автономны и не способны самостоятельно организовать и поддерживать свою жизнь. Ребенок вынужден приспосабливаться к любым предлагаемым обстоятельствам.
Именно поэтому то, что родители называют послушанием, часто связано не с пониманием, а с адаптацией и формированием «ложного я» ради выживания. Из-за невозможности самостоятельно организовать себе безопасное место, удовлетворить потребности, инстинкты в стрессе у ребенка чаще всего срабатывают по принципу «замри и притворись».
Не все из нас в детстве шли путём агрессии и открытого сопротивления "бей или беги". Многие выбирали притворство — внешнее подчинение воле авторитетного взрослого, послушание, при внутреннем противлении. Об этих и других специфических защитных механизмах психики формирующих "ложное я" можно подробно прочесть в работах Алис Миллер.
Почему в XXI веке, в цивилизованном обществе, если взрослый человек ударит другого в какой-либо конфликтной ситуации, мы будем на стороне потерпевшего и расценим этот поступок как признак проблемы с агрессией, импульсивностью, возможно, даже симптом психического расстройства у источника насилия.
Но в отношении детей мы все еще продолжаем видеть причиной агрессии что-то иное?
Причин довольно много. Одна из них — глубоко укорененные социальные мифы.
Мифы, передаваемые из поколения в поколение как нарративы и стратегии поведения, позволяют не задумываться о том, почему и для чего мы ведём себя тем или иным образом. Опора на коллективные шаблоны позволяет действовать на автопилоте, не включая критическое мышление, не пересматривая что-либо, даже если поступают новые данные. Наша личность способна на любые уловки если боится встретиться с переживанием собственной несостоятельности. Мифы о воспитании особенно защищают от встречи с некомпетентностью в вопросах родительства, в конце концов, способны уводить нас от трезвого анализа истории собственного детства.
Именно об этих мифах мы поговорим далее.
Но в отношении детей мы все еще продолжаем видеть причиной агрессии что-то иное?
Причин довольно много. Одна из них — глубоко укорененные социальные мифы.
Мифы, передаваемые из поколения в поколение как нарративы и стратегии поведения, позволяют не задумываться о том, почему и для чего мы ведём себя тем или иным образом. Опора на коллективные шаблоны позволяет действовать на автопилоте, не включая критическое мышление, не пересматривая что-либо, даже если поступают новые данные. Наша личность способна на любые уловки если боится встретиться с переживанием собственной несостоятельности. Мифы о воспитании особенно защищают от встречи с некомпетентностью в вопросах родительства, в конце концов, способны уводить нас от трезвого анализа истории собственного детства.
Именно об этих мифах мы поговорим далее.
МИФ 1. ФИЗИЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ ЭТО "ВОСПИТАНИЕ"
"Это не насилие, это воспитание.."
В языковом сознании многих людей и общества произошла тревожная метамофоза: слова "воспитывать" и "наказывать" стали если не полными синонимами, но теснейшим образом связанными понятиями. Фраза "тогда придется тебя воспитывать!" может означать "я собираюсь тебя наказать!". На вопрос "ну а ты вообще воспитываешь своего ребенка?" собеседник хочет спросить "наказываешь ли ты за провинности?". Объяснение "это не насилие, это воспитание" к сожалению бывает законченной философской позицией, соединяющих эти понятия. Произносящие ее хотят сказать : "Да, я применяю силу и причиняю боль, но это не акт агрессии, это особая педагогическая технология".
Сторонники этой точки зрения проводят границу не между «больно/не больно» или «уважение/унижение», а между «злым умыслом» и «благой целью».
В этой системе координат:
Насилие — это действие, совершаемое со злым умыслом, чтобы унизить или удовлетворить свою садистическую потребность.
«Воспитание» — это то же самое действие (удар, унижение), но совершаемое с «заботой о будущем» ребенка.
Таким образом, один и тот же акт — шлепок, подзатыльник, оскорбление — может быть либо насилием, либо добродетельным воспитанием, в зависимости от декларируемой цели родителя.
Эта логика игнорирует главное: для психики и личности ребенка этой разницы не существует!
Нервная система не распознает «воспитательный шлепок» — она регистрирует только угрозу и боль в отношениях с близким человеком.
Этот миф, считающий насилие воспитанием о зиждется так же на убеждении в том, что боль и страх являются "эффективными учителями".
Существуют различные поговорки на этот счет : "коня и ребенка надо кнутом учить", "ученье свет, а неученье - тьма, Кто не слушается - тому побои", "пожалеешь розгу - испортишь ребенка".
Эти и подобные пословицы - историческое наследие так называемой "черной педагогики", которая считала основным инструментом воздействия на ребенка - подавление и подчинение его свободной воли.
Система "черной педагогики" уходит в глубь веков и оправдывает методы насилия как эффективные в формировании "послушания". Эта концепция видит детскую природу как "дикую" и "необузданную".
Как показал психоисторик Ллойд де Моз, эта идея не нова. В амбивалентном стиле воспитания (XIV-XVII вв.) физическое насилие было основным инструментом, чтобы якобы «вышибить дьявольскую природу» из детской натуры.
Ребенок считался объектом, который нужно обязательно "переломить и перекроить" на свой лад. Оправдание насилия «пользой» — исторический пережиток, унаследованный от эпох, когда права ребенка и знания о его психическом развитии не только не существовали, но так же были наполнены опасными суевериями.
В целях социализации и адаптации насильственные методы видят оправданными и единственно возможными, считая самым опасным - своеволие и непослушание.
Маленький ребенок находится в ситуации тотальной зависимости и это становится главным рычагом давления.
Когда взрослый использует боль (физическую — через удары, или психологическую — через унижение, лишение любви) для подавления воли, ребенок оказывается перед тяжелым выбором:
1. Проявить свою волю, чувства или потребности → испытать боль и страх отвержения.
2. Отказаться от своей воли, чувств и потребностей → получить относительную «безопасность» и иллюзию одобрения.
Естественный инстинкт самосохранения заставляет ребенка в большинстве случаев выбирать второй путь.
Он учится:
Именно этот комплекс реакций — выученное, выстраданное отречение от собственного «Я» — и выдавался за успешный результат «воспитания» «Черная педагогика» совершила главную подмену: она объявила подчинение (видимое послушание) главной целью и методом воспитания. При этом ей было безразлично, какой ценой и какими внутренними механизмами это подчинение достигалось.
Это убеждение зиждется на мифе, что боль и страх — эффективные учителя. Да, они могут добиться сиюминутного послушания. Но чему на самом деле учит такой «метод»?
Не «что такое хорошо и что такое плохо», а «как избежать наказания».
Не уважению к родителям, а страху перед ними.
Не честности, а изворотливости и умению врать, чтобы скрыть проступок.
Ребенок, воспитываемый таким «методом», усваивает не моральные принципы, а модель поведения: сильный имеет право бить слабого, если объявит это «воспитанием».
Чем опасна эта подмена понятий? Во - первых, она дает родителю индульгенцию на агрессию. Назвав свой поступок «воспитанием», взрослый снимает с себя моральную ответственность. Он больше не тиран, а «педагог», и это позволяет ему не рефлексировать и не искать другие пути. Во - вторых она на калечит детскую психику. Ребенок оказывается в ловушке когнитивного диссонанса: тот, кто должен его любить и защищать, причиняет ему боль и называет это добром. Чтобы сохранить в картине мира образ «хорошего родителя», ребенок вынужден либо винить во всем себя («я заслужил»), либо диссоциироваться, отделяя себя от своих чувств. Это прямая дорога к формированию неврозов, тревожности и нарушений привязанности.
И в - третьих, она способствует воспроизведению цикла насилия. Выросший в такой системе человек с высокой вероятностью воспроизведет ее со своими детьми, потому что для него это и есть «нормальная» модель семьи. Он искренне будет верить, что, поднимая руку на ребенка, он не проявляет жестокость, а «закаляет характер» и передает проверенную «мудрость предков».
Тот же самый принцип, который в «черной педагогике» называется «воспитанием», во взрослых отношениях проявляется как система контроля и подавления. Если в детстве для этого использовались родительская власть и ремень, то во взрослом мире их заменяют психологическое насилие, изоляция и идеологическое давление.
Механика остается прежней:
Слом воли и создание зависимости.
Использование боли и страха (физического, эмоционального, социального) как основного инструмента.
Подмена понятий: насилие называют «заботой», «очищением» или «путем к спасению».
В абьюзивных романтических отношения партнер-агрессор часто может занимать роль одновременно «карающего и любящего родителя» : «я это делаю только потому, что люблю тебя». Эта фраза дословно повторяет оправдание родителя, бьющего ребенка. Партнер может контролировать круг общения, финансы, внешний вид, унижать, а затем объяснять это «заботой» и «желанием сделать тебя лучше».
В отношениях часто воспроизводится знакомый цикл насилия в виде «наказания» и «прощения».
После вспышки гнева и унижений (аналог «порки») наступает период «затишья» и ласки, когда агрессор просит прощения и осыпает жертву вниманием. Это создает ту же самую травматическую связь, что и у ребенка, который после наказания жаждет получить любовь и прощение от родителя. Жертва застревает в этом цикле, как ребенок, веря, что «если я буду очень послушной(ым), меня будут любить».
Как ребенка отрезают от внешней поддержки («не слушай никого, кроме меня»), так и абьюзер изолирует партнера от друзей и семьи, чтобы стать единственным источником оценки реальности и «любви».
В сектах и тоталитарных группах так же может воспроизводиться этот сценарий "влияния на человека через слом воли". Секты — это, по сути, институционализированная «черная педагогика» для взрослых. Они используют отработанные веками методы слома воли, доведенные до совершенства.
Одной из первых манипуляций является объяснение важности разрыва с прошлой идентичностью. Новому адепту сразу дают понять, что его «старая» личность — греховна, порочна и неверна. Это прямое повторение установки, что ребенок от природы «плох» и его нужно «переделать». Прошлые убеждения, ценности и связи объявляются неведением, иллюзией, пороком и злом.
Насилие оправдывается "очищением". Любые проявления независимой воли, сомнения или тоски по старой жизни сурово караются. Наказание (будь то физический труд, лишение сна, жизненно важных потребностей, публичное унижение) подается не как акт насилия, а как «духовная практика», необходимая для «роста».
Харизматичный лидер секты или группа занимает место карающего родителя, чье одобрение необходимо постараться заслужить. Страх перед изгнанием (которое в картине мира сектанта равносильно духовной гибели) заменяет детский страх потерять любовь родителей. Воля человека систематически разрушается, чтобы заменить ее волей лидера.
Одна из незаметных форм зависимостей является экономическая и социальная зависимость. Адепта лишают ресурсов и внешних связей, делая его столь же зависимым и беспомощным, как ребенка в семье.
В корпоративной культуре абьюз и токсичное отношение на рабочих местах так же встречается не редко.
Хотя здесь редко в цивилизованном обществе применяется физическое насилие, психологические механизмы те же:
Требование тотального послушания и подавления личных границ под видом «корпоративного духа» и «преданности компании».
Систематическое унижение и обесценивание («ты никто без этой компании») со стороны начальства.
Создание атмосферы постоянного страха (увольнения, профессионального уничтожения), который заставляет сотрудника терпеть невыносимые условия и отказываться от своих потребностей (на сон, отдых, личную жизнь).
Выросший в атмосфере «черной педагогики» человек с сломленной волей и выстроенным «ложным Я» не узнает насилие как насилие. Для его психики это — знакомая, хоть и болезненная, форма «любви» и «заботы» и даже необходимых условий для развития!
Он привык к тому, что:
Насилие, оправданное как «воспитание» в детстве, создает идеальную почву для того, чтобы человек во взрослом возрасте стал жертвой или автором насилия в других системах подавления.
Разорвать этот порочный круг можно только одним способом: узнав и назвав насилие - насилием (а не воспитанием) в собственном детстве. Осознав, что боль и страх никогда не были инструментами роста, а были лишь орудиями контроля, человек получает шанс выстроить взрослые отношения, основанные не на подчинении и страхе, а на взаимном уважении и свободе.
Настоящее обучение не может быть основано на сломе воли. Его суть — в создании безопасных, уважительных отношений, в которых ребенок учится, растет и поступает добровольно не опасаясь быть наказанным.
Социализация и обучение могут происходить благодаря пониманию причин и следствий, обучению и поддержке со стороны тех, кто его любит.
В языковом сознании многих людей и общества произошла тревожная метамофоза: слова "воспитывать" и "наказывать" стали если не полными синонимами, но теснейшим образом связанными понятиями. Фраза "тогда придется тебя воспитывать!" может означать "я собираюсь тебя наказать!". На вопрос "ну а ты вообще воспитываешь своего ребенка?" собеседник хочет спросить "наказываешь ли ты за провинности?". Объяснение "это не насилие, это воспитание" к сожалению бывает законченной философской позицией, соединяющих эти понятия. Произносящие ее хотят сказать : "Да, я применяю силу и причиняю боль, но это не акт агрессии, это особая педагогическая технология".
Сторонники этой точки зрения проводят границу не между «больно/не больно» или «уважение/унижение», а между «злым умыслом» и «благой целью».
В этой системе координат:
Насилие — это действие, совершаемое со злым умыслом, чтобы унизить или удовлетворить свою садистическую потребность.
«Воспитание» — это то же самое действие (удар, унижение), но совершаемое с «заботой о будущем» ребенка.
Таким образом, один и тот же акт — шлепок, подзатыльник, оскорбление — может быть либо насилием, либо добродетельным воспитанием, в зависимости от декларируемой цели родителя.
Эта логика игнорирует главное: для психики и личности ребенка этой разницы не существует!
Нервная система не распознает «воспитательный шлепок» — она регистрирует только угрозу и боль в отношениях с близким человеком.
Этот миф, считающий насилие воспитанием о зиждется так же на убеждении в том, что боль и страх являются "эффективными учителями".
Существуют различные поговорки на этот счет : "коня и ребенка надо кнутом учить", "ученье свет, а неученье - тьма, Кто не слушается - тому побои", "пожалеешь розгу - испортишь ребенка".
Эти и подобные пословицы - историческое наследие так называемой "черной педагогики", которая считала основным инструментом воздействия на ребенка - подавление и подчинение его свободной воли.
Система "черной педагогики" уходит в глубь веков и оправдывает методы насилия как эффективные в формировании "послушания". Эта концепция видит детскую природу как "дикую" и "необузданную".
Как показал психоисторик Ллойд де Моз, эта идея не нова. В амбивалентном стиле воспитания (XIV-XVII вв.) физическое насилие было основным инструментом, чтобы якобы «вышибить дьявольскую природу» из детской натуры.
Ребенок считался объектом, который нужно обязательно "переломить и перекроить" на свой лад. Оправдание насилия «пользой» — исторический пережиток, унаследованный от эпох, когда права ребенка и знания о его психическом развитии не только не существовали, но так же были наполнены опасными суевериями.
В целях социализации и адаптации насильственные методы видят оправданными и единственно возможными, считая самым опасным - своеволие и непослушание.
Маленький ребенок находится в ситуации тотальной зависимости и это становится главным рычагом давления.
Когда взрослый использует боль (физическую — через удары, или психологическую — через унижение, лишение любви) для подавления воли, ребенок оказывается перед тяжелым выбором:
1. Проявить свою волю, чувства или потребности → испытать боль и страх отвержения.
2. Отказаться от своей воли, чувств и потребностей → получить относительную «безопасность» и иллюзию одобрения.
Естественный инстинкт самосохранения заставляет ребенка в большинстве случаев выбирать второй путь.
Он учится:
- Подавлять свой гнев, обиду и протест
- Отрицать свои истинные чувства («я не злюсь на маму, она права»).
- Притворяться послушным и удобным
- Подчиняться не из понимания, а из страха
Именно этот комплекс реакций — выученное, выстраданное отречение от собственного «Я» — и выдавался за успешный результат «воспитания» «Черная педагогика» совершила главную подмену: она объявила подчинение (видимое послушание) главной целью и методом воспитания. При этом ей было безразлично, какой ценой и какими внутренними механизмами это подчинение достигалось.
Это убеждение зиждется на мифе, что боль и страх — эффективные учителя. Да, они могут добиться сиюминутного послушания. Но чему на самом деле учит такой «метод»?
Не «что такое хорошо и что такое плохо», а «как избежать наказания».
Не уважению к родителям, а страху перед ними.
Не честности, а изворотливости и умению врать, чтобы скрыть проступок.
Ребенок, воспитываемый таким «методом», усваивает не моральные принципы, а модель поведения: сильный имеет право бить слабого, если объявит это «воспитанием».
Чем опасна эта подмена понятий? Во - первых, она дает родителю индульгенцию на агрессию. Назвав свой поступок «воспитанием», взрослый снимает с себя моральную ответственность. Он больше не тиран, а «педагог», и это позволяет ему не рефлексировать и не искать другие пути. Во - вторых она на калечит детскую психику. Ребенок оказывается в ловушке когнитивного диссонанса: тот, кто должен его любить и защищать, причиняет ему боль и называет это добром. Чтобы сохранить в картине мира образ «хорошего родителя», ребенок вынужден либо винить во всем себя («я заслужил»), либо диссоциироваться, отделяя себя от своих чувств. Это прямая дорога к формированию неврозов, тревожности и нарушений привязанности.
И в - третьих, она способствует воспроизведению цикла насилия. Выросший в такой системе человек с высокой вероятностью воспроизведет ее со своими детьми, потому что для него это и есть «нормальная» модель семьи. Он искренне будет верить, что, поднимая руку на ребенка, он не проявляет жестокость, а «закаляет характер» и передает проверенную «мудрость предков».
Тот же самый принцип, который в «черной педагогике» называется «воспитанием», во взрослых отношениях проявляется как система контроля и подавления. Если в детстве для этого использовались родительская власть и ремень, то во взрослом мире их заменяют психологическое насилие, изоляция и идеологическое давление.
Механика остается прежней:
Слом воли и создание зависимости.
Использование боли и страха (физического, эмоционального, социального) как основного инструмента.
Подмена понятий: насилие называют «заботой», «очищением» или «путем к спасению».
В абьюзивных романтических отношения партнер-агрессор часто может занимать роль одновременно «карающего и любящего родителя» : «я это делаю только потому, что люблю тебя». Эта фраза дословно повторяет оправдание родителя, бьющего ребенка. Партнер может контролировать круг общения, финансы, внешний вид, унижать, а затем объяснять это «заботой» и «желанием сделать тебя лучше».
В отношениях часто воспроизводится знакомый цикл насилия в виде «наказания» и «прощения».
После вспышки гнева и унижений (аналог «порки») наступает период «затишья» и ласки, когда агрессор просит прощения и осыпает жертву вниманием. Это создает ту же самую травматическую связь, что и у ребенка, который после наказания жаждет получить любовь и прощение от родителя. Жертва застревает в этом цикле, как ребенок, веря, что «если я буду очень послушной(ым), меня будут любить».
Как ребенка отрезают от внешней поддержки («не слушай никого, кроме меня»), так и абьюзер изолирует партнера от друзей и семьи, чтобы стать единственным источником оценки реальности и «любви».
В сектах и тоталитарных группах так же может воспроизводиться этот сценарий "влияния на человека через слом воли". Секты — это, по сути, институционализированная «черная педагогика» для взрослых. Они используют отработанные веками методы слома воли, доведенные до совершенства.
Одной из первых манипуляций является объяснение важности разрыва с прошлой идентичностью. Новому адепту сразу дают понять, что его «старая» личность — греховна, порочна и неверна. Это прямое повторение установки, что ребенок от природы «плох» и его нужно «переделать». Прошлые убеждения, ценности и связи объявляются неведением, иллюзией, пороком и злом.
Насилие оправдывается "очищением". Любые проявления независимой воли, сомнения или тоски по старой жизни сурово караются. Наказание (будь то физический труд, лишение сна, жизненно важных потребностей, публичное унижение) подается не как акт насилия, а как «духовная практика», необходимая для «роста».
Харизматичный лидер секты или группа занимает место карающего родителя, чье одобрение необходимо постараться заслужить. Страх перед изгнанием (которое в картине мира сектанта равносильно духовной гибели) заменяет детский страх потерять любовь родителей. Воля человека систематически разрушается, чтобы заменить ее волей лидера.
Одна из незаметных форм зависимостей является экономическая и социальная зависимость. Адепта лишают ресурсов и внешних связей, делая его столь же зависимым и беспомощным, как ребенка в семье.
В корпоративной культуре абьюз и токсичное отношение на рабочих местах так же встречается не редко.
Хотя здесь редко в цивилизованном обществе применяется физическое насилие, психологические механизмы те же:
Требование тотального послушания и подавления личных границ под видом «корпоративного духа» и «преданности компании».
Систематическое унижение и обесценивание («ты никто без этой компании») со стороны начальства.
Создание атмосферы постоянного страха (увольнения, профессионального уничтожения), который заставляет сотрудника терпеть невыносимые условия и отказываться от своих потребностей (на сон, отдых, личную жизнь).
Выросший в атмосфере «черной педагогики» человек с сломленной волей и выстроенным «ложным Я» не узнает насилие как насилие. Для его психики это — знакомая, хоть и болезненная, форма «любви» и «заботы» и даже необходимых условий для развития!
Он привык к тому, что:
- насилие — неизбежная часть близких отношений
- границы могут и даже должны быть нарушены
- быть "послушным", подавляя свою и чужую волю
Насилие, оправданное как «воспитание» в детстве, создает идеальную почву для того, чтобы человек во взрослом возрасте стал жертвой или автором насилия в других системах подавления.
Разорвать этот порочный круг можно только одним способом: узнав и назвав насилие - насилием (а не воспитанием) в собственном детстве. Осознав, что боль и страх никогда не были инструментами роста, а были лишь орудиями контроля, человек получает шанс выстроить взрослые отношения, основанные не на подчинении и страхе, а на взаимном уважении и свободе.
Настоящее обучение не может быть основано на сломе воли. Его суть — в создании безопасных, уважительных отношений, в которых ребенок учится, растет и поступает добровольно не опасаясь быть наказанным.
Социализация и обучение могут происходить благодаря пониманию причин и следствий, обучению и поддержке со стороны тех, кто его любит.
МИФ 2. Я ЖЕ ИЗБИВАЮ! ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ШЛЕПОК!
"Я же не сильно, что в этом такого?!"
Давайте разберём, почему любые физические наказания — это форма физического насилия, даже если они совершаются с идеей «пользы» и «в меру». И самое важное - почему они бесполезны, вредны и опасны для психического здоровья детей.
По таким между народным стандартам как ВОЗ и ЮНИСЕФ, большинства профессиональных психологических и педиатрических ассоциаций физическое насилие над ребенком ребенком определяется как любое преднамеренное применение физической силы (независимо от силы и последствий) со стороны родителя или опекуна, которое причиняет или с высокой вероятностью может причинить физический ущерб, ущерб здоровью, развитию или достоинству ребенка.
Ключевые слова : преднамеренно, физическая сила, потенциал/факт вреда.
Шлепок, подзатыльник, дергание за руку, удар ремнем или чем то еще, постановка в угол или какое то другое место, сотрясение тела каким либо образом (младенцы довольно часто подвергаются таким воздействиям).
Интенсивность боли не критерий. Унижение, ощущение нарушения телесных границ, само по себе ощущения беспомощности в неравных и зависимых отношениях.
"Ну я же не избиваю! Это всего лишь подзатыльник?!"
Подобные высказывания опираются на несколько иллюзий.
Первая иллюзия - иллюзия того, что по степени болевых ощущений можно что то отнести к насилию, а что то нет.
Но во - первых это не так, тело и психика маленького ребенка реагируют не только о степени боли, а на сам факт переживания акта агрессии со стороны близкого человека. Например, в теме сексуального растления малолетних вообще может не быть никакой боли. Но сам факт того, что взрослый человек не уважает границы и поступает с телом ребенком так как захочет - это ключевой момент объективации тела. Телесность переживается как нечто, что не принадлежит ребенку. Этот опыт включает защитный механизм диссоциации, создающий в последующем целый спектр проблем : от психосоматики до тяжелых психических расстройств.
Вторая иллюзия - иллюзия контроля, которая часто подразумевает то, что родитель контролирует свою силу и не создает потенциально травмоопасных ситуаций. "Легкое насилие" - довольно "скользкий склон" и часто подобная философия открывает дорогу к эскалации. Насилие во взрослых отношениях (например в парах) редко начинается с ударов головой об стену. Авторы насилия склонны проявлять сперва какие то вербальные унижающие комментарии, потом просто как то подталкивать, давать какие то подзатыльники, хватать за шею и уже потом переходить в более агрессивным действиям.
Фраза «Я не избиваю, я всего лишь шлепаю» — попытка провести воображаемую черту там, где ее нет. Она создает иллюзию «дозированного» и «безопасного» насилия, как будто существует некая шкала, где легкий шлепок находится на приемлемом конце, а жестокое избиение — на другом.
Но дело не в интенсивности боли, а в самом факте и его невербальном сообщении Вам.
Представьте, что ваш партнер или друг, с которым вы в ссоре, легонько шлепнет вас по лицу. Боль будет минимальной, почти символической. Но что вы почувствуете? Унижение. Гнев. Недоумение. Нарушение границ. Потому что сам акт — это послание: «Я имею право делать с твоим телом то, что посчитаю нужным. Мое недовольство твоим поведением - достаточный повод нарушить твои границы».
Тело ребенка — это первая и главная территория, через которую он познает мир. Когда эта территория систематически нарушается теми, кто должен ее охранять, рушится фундаментальное чувство безопасности. Мир становится местом с диффузными границами. Это урок о том, что сильный имеет право. Шлепок — это открытый диалог. Это акт скрытого унижения. Ребенок усваивает, что в отношениях вопросы решаются физическим превосходством. Этот урок он может пронести во взрослую жизнь, либо становясь жертвой, либо сам превращаясь в агрессора.
В общественном сознании абьюз в отношениях взрослых часто ассоциируется с сильными побоями, переломами и госпитализацией. Но путь к этому кошмару почти никогда не начинается с удара кулаком. Он начинается с едва заметных, «безобидных» нарушений физических границ, которые абьюзер маскирует под игривость, страсть или случайность.
Но эти "безобидные" действия — тщательно дозированные тесты на внушаемость и подчинение.
Абьюзер, часто неосознанно, проверяет, что ему может сойти с рук. Каждое такое нарушение — это вопрос: «Примешь ли ты это? Могу ли я идти дальше?». И если партнер прощает, оправдывает или игнорирует это, граница насилия начинает необратимо двигаться.
Сама по себе боль от такого действия может быть минимальной. Но его смысловая нагрузка — колоссальна.
Абьюзер смотрит, признаете ли вы его право распоряжаться вашим телом. Согласие на «малое» открывает дорогу к «большему». Подобные жесты — способ обесчеловечить партнера, низвести его до уровня объекта, которым можно толкать, бросать в него вещи или хватать. В том числе это про атмосферу постоянной тревоги. Вы никогда не знаете, когда последует следующий «легкий» толчок или бросок предмета. Жизнь в состоянии гипербдительности, постоянного сканирования настроение партнера, чтобы избежать провокации.
В том числе классическая тактика «газлайтинга» так же является одной из поддерживающих эту систему явлений. Когда вы пытаетесь об этом говорить, абьюзер скорее всего ответит: «Я тебя не бил(а) же!», «Ты все драматизируешь, я просто потянул(а) тебя за руку». Это заставляет вас сомневаться в собственном восприятии и чувствовать себя сумасшедшим из-за такой «мелочи».
Механизм оправдания насилия в детско-родительских отношениях поразительно похож на тактики абьюзеров во взрослых парах. И в том, и в другом случае агрессор стремится не только совершить акт насилия, но и переписать реальность жертвы, заставив ее усомниться в собственных чувствах и восприятии.
Фраза родителя «Ну я же не избил тебя! Это всего лишь шлепок/подзатыльник!» — это прямая параллель с фразой абьюзивного партнера «Я же тебя не бью! Я просто тебя толкнул/схватил за руку!».
Оба высказывания преследуют одни и те же цели:
Абьюзер (будь то родитель или партнер) устанавливает негласный реестр, где только «серьезное» избиение признается насилием. Все, что ниже этой произвольно установленной черты — шлепки, толчки, щипки, дергание — объявляется «нестоящей мелочью», «дисциплиной» или «страстью».
· Ребенку говорят: «Что ты плачешь? Тебе же не больно!»
· Взрослому партнеру говорят: «Прекрати истерику, я же тебя пальцем не тронул!»
Послание идентично: твоя боль нереальна. Твое чувство унижения и нарушения границ — это твоя выдумка или слабость.
Когда ребенок пытается выразить обиду или страх в ответ на «легкое» насилие, он часто сталкивается с газлайтингом — формой психологического насилия, когда его заставляют сомневаться в адекватности своего восприятия.
· «Ты все придумал! Я просто играл(а)!» (когда его дернули или шлепнули «в шутку»).
· «Ты просто слишком чувствительный(ая)!»
· «Тебе нельзя ничего сказать, ты сразу жертву из себя строишь!»
Это заставляет ребенка совершить катастрофическую для его психики подмену: «Если мама/папа, которые меня любят, говорят, что боли не было, значит, ее и правда не было. Значит, со мной что-то не так. Значит, я действительно все придумал».
Классическая тактика абьюза — обвинить жертву в провокации.
Родитель: «На кого ты хочешь все свалить? Сам довел, вот и получил! Больше не провоцируй — не будет и шлепков».
Партнер: «Ты же знаешь, что я вспыльчивый, зачем ты меня злишь?»
Эффект для ребенка: он усваивает, что его тело и его психологические границы не являются неприкосновенными. Они могут и должны быть нарушены, если он «плохо» себя ведет. Он учится не защищать себя, а стараться быть «удобным», чтобы избежать боли.
Систематическое обесценивание «небольшой» агрессии со стороны самых близких людей формирует у ребенка выученную беспомощность и искаженную картину любви.
«Небольшие» акты агрессии в детстве — это не «меньшее зло».
Это фундамент, на котором строится толерантность к большему насилию.
Обесценивая боль ребенка от шлепка или подзатыльника, мы не воспитываем в нем стойкость.
Мы воспитываем в нем глухоту к собственным чувствам и готовность в будущем терпеть унижение от других, потому что первый и главный урок, который он усвоил: «Не нужно обращать внимания на детали. Не будь таким неженкой, таким чувствительным!"
Разорвать этот порочный круг можно только одним способом — признав, что уважение к ребенку начинается с уважения к его физическим и эмоциональным границам, без каких-либо небольших исключений.
Давайте разберём, почему любые физические наказания — это форма физического насилия, даже если они совершаются с идеей «пользы» и «в меру». И самое важное - почему они бесполезны, вредны и опасны для психического здоровья детей.
По таким между народным стандартам как ВОЗ и ЮНИСЕФ, большинства профессиональных психологических и педиатрических ассоциаций физическое насилие над ребенком ребенком определяется как любое преднамеренное применение физической силы (независимо от силы и последствий) со стороны родителя или опекуна, которое причиняет или с высокой вероятностью может причинить физический ущерб, ущерб здоровью, развитию или достоинству ребенка.
Ключевые слова : преднамеренно, физическая сила, потенциал/факт вреда.
Шлепок, подзатыльник, дергание за руку, удар ремнем или чем то еще, постановка в угол или какое то другое место, сотрясение тела каким либо образом (младенцы довольно часто подвергаются таким воздействиям).
Интенсивность боли не критерий. Унижение, ощущение нарушения телесных границ, само по себе ощущения беспомощности в неравных и зависимых отношениях.
"Ну я же не избиваю! Это всего лишь подзатыльник?!"
Подобные высказывания опираются на несколько иллюзий.
Первая иллюзия - иллюзия того, что по степени болевых ощущений можно что то отнести к насилию, а что то нет.
Но во - первых это не так, тело и психика маленького ребенка реагируют не только о степени боли, а на сам факт переживания акта агрессии со стороны близкого человека. Например, в теме сексуального растления малолетних вообще может не быть никакой боли. Но сам факт того, что взрослый человек не уважает границы и поступает с телом ребенком так как захочет - это ключевой момент объективации тела. Телесность переживается как нечто, что не принадлежит ребенку. Этот опыт включает защитный механизм диссоциации, создающий в последующем целый спектр проблем : от психосоматики до тяжелых психических расстройств.
Вторая иллюзия - иллюзия контроля, которая часто подразумевает то, что родитель контролирует свою силу и не создает потенциально травмоопасных ситуаций. "Легкое насилие" - довольно "скользкий склон" и часто подобная философия открывает дорогу к эскалации. Насилие во взрослых отношениях (например в парах) редко начинается с ударов головой об стену. Авторы насилия склонны проявлять сперва какие то вербальные унижающие комментарии, потом просто как то подталкивать, давать какие то подзатыльники, хватать за шею и уже потом переходить в более агрессивным действиям.
Фраза «Я не избиваю, я всего лишь шлепаю» — попытка провести воображаемую черту там, где ее нет. Она создает иллюзию «дозированного» и «безопасного» насилия, как будто существует некая шкала, где легкий шлепок находится на приемлемом конце, а жестокое избиение — на другом.
Но дело не в интенсивности боли, а в самом факте и его невербальном сообщении Вам.
Представьте, что ваш партнер или друг, с которым вы в ссоре, легонько шлепнет вас по лицу. Боль будет минимальной, почти символической. Но что вы почувствуете? Унижение. Гнев. Недоумение. Нарушение границ. Потому что сам акт — это послание: «Я имею право делать с твоим телом то, что посчитаю нужным. Мое недовольство твоим поведением - достаточный повод нарушить твои границы».
Тело ребенка — это первая и главная территория, через которую он познает мир. Когда эта территория систематически нарушается теми, кто должен ее охранять, рушится фундаментальное чувство безопасности. Мир становится местом с диффузными границами. Это урок о том, что сильный имеет право. Шлепок — это открытый диалог. Это акт скрытого унижения. Ребенок усваивает, что в отношениях вопросы решаются физическим превосходством. Этот урок он может пронести во взрослую жизнь, либо становясь жертвой, либо сам превращаясь в агрессора.
В общественном сознании абьюз в отношениях взрослых часто ассоциируется с сильными побоями, переломами и госпитализацией. Но путь к этому кошмару почти никогда не начинается с удара кулаком. Он начинается с едва заметных, «безобидных» нарушений физических границ, которые абьюзер маскирует под игривость, страсть или случайность.
Но эти "безобидные" действия — тщательно дозированные тесты на внушаемость и подчинение.
Абьюзер, часто неосознанно, проверяет, что ему может сойти с рук. Каждое такое нарушение — это вопрос: «Примешь ли ты это? Могу ли я идти дальше?». И если партнер прощает, оправдывает или игнорирует это, граница насилия начинает необратимо двигаться.
- «Легкий» толчок, когда вы ему «надоели» или «стоите не там». Послание: «Твое тело и твое пространство могу сдвинуть, если они мне мешают».
- Бросание в вас небольшого предмета (телефона, пульта, полотенца). Послание: «Ты — мишень для моего раздражения. Я могу метать в тебя вещи, и это нормально».
- «Игривое» сжатие запястья, руки или шеи с чрезмерной силой, вызывающее дискомфорт. Послание: «Я демонстрирую свою физическую мощь и контроль над твоим телом. Ты в моей власти».
- Щипки, дергание за одежду или волосы «по-дружески» или в ссоре. Послание: «Твои границы и твоя неприкосновенность для меня условны. Я могу причинить тебе боль, когда захочу».
- Блокировка выхода, удерживание за дверь, нависание над вами (так называемый «каппинг»). Послание: «Ты не свободен(на) в своих перемещениях. Ты не можешь уйти без моего разрешения».
Сама по себе боль от такого действия может быть минимальной. Но его смысловая нагрузка — колоссальна.
Абьюзер смотрит, признаете ли вы его право распоряжаться вашим телом. Согласие на «малое» открывает дорогу к «большему». Подобные жесты — способ обесчеловечить партнера, низвести его до уровня объекта, которым можно толкать, бросать в него вещи или хватать. В том числе это про атмосферу постоянной тревоги. Вы никогда не знаете, когда последует следующий «легкий» толчок или бросок предмета. Жизнь в состоянии гипербдительности, постоянного сканирования настроение партнера, чтобы избежать провокации.
В том числе классическая тактика «газлайтинга» так же является одной из поддерживающих эту систему явлений. Когда вы пытаетесь об этом говорить, абьюзер скорее всего ответит: «Я тебя не бил(а) же!», «Ты все драматизируешь, я просто потянул(а) тебя за руку». Это заставляет вас сомневаться в собственном восприятии и чувствовать себя сумасшедшим из-за такой «мелочи».
Механизм оправдания насилия в детско-родительских отношениях поразительно похож на тактики абьюзеров во взрослых парах. И в том, и в другом случае агрессор стремится не только совершить акт насилия, но и переписать реальность жертвы, заставив ее усомниться в собственных чувствах и восприятии.
Фраза родителя «Ну я же не избил тебя! Это всего лишь шлепок/подзатыльник!» — это прямая параллель с фразой абьюзивного партнера «Я же тебя не бью! Я просто тебя толкнул/схватил за руку!».
Оба высказывания преследуют одни и те же цели:
- Создание иерархии боли и обесценивание переживаний
Абьюзер (будь то родитель или партнер) устанавливает негласный реестр, где только «серьезное» избиение признается насилием. Все, что ниже этой произвольно установленной черты — шлепки, толчки, щипки, дергание — объявляется «нестоящей мелочью», «дисциплиной» или «страстью».
· Ребенку говорят: «Что ты плачешь? Тебе же не больно!»
· Взрослому партнеру говорят: «Прекрати истерику, я же тебя пальцем не тронул!»
Послание идентично: твоя боль нереальна. Твое чувство унижения и нарушения границ — это твоя выдумка или слабость.
- Газлайтинг: «Ты все придумал!»
Когда ребенок пытается выразить обиду или страх в ответ на «легкое» насилие, он часто сталкивается с газлайтингом — формой психологического насилия, когда его заставляют сомневаться в адекватности своего восприятия.
· «Ты все придумал! Я просто играл(а)!» (когда его дернули или шлепнули «в шутку»).
· «Ты просто слишком чувствительный(ая)!»
· «Тебе нельзя ничего сказать, ты сразу жертву из себя строишь!»
Это заставляет ребенка совершить катастрофическую для его психики подмену: «Если мама/папа, которые меня любят, говорят, что боли не было, значит, ее и правда не было. Значит, со мной что-то не так. Значит, я действительно все придумал».
- Перекладывание ответственности: «Ты сам меня довел!»
Классическая тактика абьюза — обвинить жертву в провокации.
Родитель: «На кого ты хочешь все свалить? Сам довел, вот и получил! Больше не провоцируй — не будет и шлепков».
Партнер: «Ты же знаешь, что я вспыльчивый, зачем ты меня злишь?»
Эффект для ребенка: он усваивает, что его тело и его психологические границы не являются неприкосновенными. Они могут и должны быть нарушены, если он «плохо» себя ведет. Он учится не защищать себя, а стараться быть «удобным», чтобы избежать боли.
Систематическое обесценивание «небольшой» агрессии со стороны самых близких людей формирует у ребенка выученную беспомощность и искаженную картину любви.
«Небольшие» акты агрессии в детстве — это не «меньшее зло».
Это фундамент, на котором строится толерантность к большему насилию.
Обесценивая боль ребенка от шлепка или подзатыльника, мы не воспитываем в нем стойкость.
Мы воспитываем в нем глухоту к собственным чувствам и готовность в будущем терпеть унижение от других, потому что первый и главный урок, который он усвоил: «Не нужно обращать внимания на детали. Не будь таким неженкой, таким чувствительным!"
Разорвать этот порочный круг можно только одним способом — признав, что уважение к ребенку начинается с уважения к его физическим и эмоциональным границам, без каких-либо небольших исключений.
МИФ 3. ЭТО ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА РАДИ БУДУЩЕГО БЛАГА!
"Я вот благодарен родителям, за то, что они меня били!
Человеком вырос!"
Встречали ли вы людей, которые с гордостью и некой суровой нежностью говорят о своем трудном детстве? «Меня били, и правильно делали — закалили характер!». «Жизнь — это борьба, мой отец меня к ней подготовил». Возникает ощущение, что человек прошел некий сакральный путь героя, а свои шрамы считает боевыми наградами. Эта «благодарность» за перенесенную боль — часто не признак силы духа, а сложный психологический механизм, спасавший когда-то психику ребенка от отчаяния.
Психика человека устроена так, что труднее всего нам выносить мысль о бессмысленном страдании. Особенно если его источник — те, кто должен был оберегать и любить нас. Чтобы сохранить в себе образ любящих родителей и не сломаться от осознания несправедливости, ребенок бессознательно начинает искать оправдание происходящему. Так рождается внутренняя легенда: «Они не мучили меня — они закаляли. Они не ломали — они строили мой характер». Боль приносит не просто так, а ради высшей цели. Так травма превращается в «суровую школу», а пережитое насилие — в необходимый урок. В том числе эта идея может транслироваться и самим родителем : "я наказываю тебя для твоего же блага!".
Верования людей (и детей и взрослых) в оправданность насилия - процесс тесно связан с потребностью вернуть себе идею контроля над происходящим.
Ребенок, подвергавшийся насилию, был абсолютно беспомощен. Став взрослым, он может попытаться осмыслить и «приручить» свой ужас, переписав его историю. Из пассивной жертвы он превращает себя в героя испытания, которое сделало его сильнее.
Это может придать прошлому логику и смысл, которых на самом деле не было.
Гордость за свою «стойкость» становится броней, защищающей от куда более страшного чувства — осознания непрожитой детской боли и обиды.
Здесь кроется психологическая перверсия — извращение самих понятий любви и заботы. Жестокость и внимание, боль и опеку сознание начинает воспринимать как единое целое, невозможное одно без другого.
Формируется устойчивая связка: "если бьют — значит любят", "страдание - неизбежно". Боль сакрализируется, становится привычной и потому «настоящей» формой качества жизни или ее конкретных сфер.
Именно поэтому во взрослом возрасте люди, пережившие домашнее насилие (а наказания - насилие) могут продолжать сохранять лояльность к переживанию подобных болезненных обстоятельств в силу потребности из за "адреналиновой зависимости" - боли, без которого мир кажется пресным. Такое воспроизведение сценария еще называют - синдром навязчивого повторения.
Мешают же соединиться с сочувствием к себе мощные защитные механизмы психики. Включается тотальное отрицание: «Да ничего страшного со мной не происходило, все это ерунда». Или рационализация: «Родители сами были несчастны, они по-другому не умели». Часто боль просто вытесняется — человек искренне не помнит многих эпизодов своего детства. А самое главное — включается жестокий внутренний критик, который с насмешкой и презрением относится к любой попытке пожалеть себя. Ведь пожалеть — значит признать, что ты был уязвимым, беззащитным и что тебе было невыносимо больно. Для того, кто годами выживал, опираясь на миф о своей «стальной» силе, это равносильно крушению всей личности.
Путь к истинному исцелению начинается не с благодарности за боль, а с простого и мужественного признания: «Да, это было. Да, это было больно, несправедливо и жестоко. И мне не нужно это оправдывать». Это не про обвинение родителей, а про то, чтобы наконец-то увидеть в том маленьком ребенке не «прошедшего закалку бойца», а просто ребенка, которому было страшно, больно и одиноко. Дать ему ту защиту и сочувствие, которых он был лишен. Настоящая сила рождается не из отрицания страданий, а из способности обернуться к ним с добротой и сказать себе: «Ты заслуживал другого. И сейчас я могу дать тебе ту любовь, в которой ты так нуждался». Это и есть тот самый акт настоящего взросления — не героического, а тихого, человеческого, исцеляющего.
Человеком вырос!"
Встречали ли вы людей, которые с гордостью и некой суровой нежностью говорят о своем трудном детстве? «Меня били, и правильно делали — закалили характер!». «Жизнь — это борьба, мой отец меня к ней подготовил». Возникает ощущение, что человек прошел некий сакральный путь героя, а свои шрамы считает боевыми наградами. Эта «благодарность» за перенесенную боль — часто не признак силы духа, а сложный психологический механизм, спасавший когда-то психику ребенка от отчаяния.
Психика человека устроена так, что труднее всего нам выносить мысль о бессмысленном страдании. Особенно если его источник — те, кто должен был оберегать и любить нас. Чтобы сохранить в себе образ любящих родителей и не сломаться от осознания несправедливости, ребенок бессознательно начинает искать оправдание происходящему. Так рождается внутренняя легенда: «Они не мучили меня — они закаляли. Они не ломали — они строили мой характер». Боль приносит не просто так, а ради высшей цели. Так травма превращается в «суровую школу», а пережитое насилие — в необходимый урок. В том числе эта идея может транслироваться и самим родителем : "я наказываю тебя для твоего же блага!".
Верования людей (и детей и взрослых) в оправданность насилия - процесс тесно связан с потребностью вернуть себе идею контроля над происходящим.
Ребенок, подвергавшийся насилию, был абсолютно беспомощен. Став взрослым, он может попытаться осмыслить и «приручить» свой ужас, переписав его историю. Из пассивной жертвы он превращает себя в героя испытания, которое сделало его сильнее.
Это может придать прошлому логику и смысл, которых на самом деле не было.
Гордость за свою «стойкость» становится броней, защищающей от куда более страшного чувства — осознания непрожитой детской боли и обиды.
Здесь кроется психологическая перверсия — извращение самих понятий любви и заботы. Жестокость и внимание, боль и опеку сознание начинает воспринимать как единое целое, невозможное одно без другого.
Формируется устойчивая связка: "если бьют — значит любят", "страдание - неизбежно". Боль сакрализируется, становится привычной и потому «настоящей» формой качества жизни или ее конкретных сфер.
Именно поэтому во взрослом возрасте люди, пережившие домашнее насилие (а наказания - насилие) могут продолжать сохранять лояльность к переживанию подобных болезненных обстоятельств в силу потребности из за "адреналиновой зависимости" - боли, без которого мир кажется пресным. Такое воспроизведение сценария еще называют - синдром навязчивого повторения.
Мешают же соединиться с сочувствием к себе мощные защитные механизмы психики. Включается тотальное отрицание: «Да ничего страшного со мной не происходило, все это ерунда». Или рационализация: «Родители сами были несчастны, они по-другому не умели». Часто боль просто вытесняется — человек искренне не помнит многих эпизодов своего детства. А самое главное — включается жестокий внутренний критик, который с насмешкой и презрением относится к любой попытке пожалеть себя. Ведь пожалеть — значит признать, что ты был уязвимым, беззащитным и что тебе было невыносимо больно. Для того, кто годами выживал, опираясь на миф о своей «стальной» силе, это равносильно крушению всей личности.
Путь к истинному исцелению начинается не с благодарности за боль, а с простого и мужественного признания: «Да, это было. Да, это было больно, несправедливо и жестоко. И мне не нужно это оправдывать». Это не про обвинение родителей, а про то, чтобы наконец-то увидеть в том маленьком ребенке не «прошедшего закалку бойца», а просто ребенка, которому было страшно, больно и одиноко. Дать ему ту защиту и сочувствие, которых он был лишен. Настоящая сила рождается не из отрицания страданий, а из способности обернуться к ним с добротой и сказать себе: «Ты заслуживал другого. И сейчас я могу дать тебе ту любовь, в которой ты так нуждался». Это и есть тот самый акт настоящего взросления — не героического, а тихого, человеческого, исцеляющего.
МИФ 4. СТРАДАНИЯ ЗАКАЛЯЮТ ДУХ РЕБЕНКА!
"Надо готовить ребенка к реальности! В жизни никто жалеть не будет!"
Исторически сложилось и до сих пор существует опасное заблуждение: чтобы сделать ребенка сильным и стрессоустойчивым, его нужно с младенчества подвергать лишениям, жесткой дисциплине и физическим испытаниям. Считалось, что чем раньше и больше ребенок переживает нехваток и боли, тем «закаленнее» будет его дух во взрослой жизни. Эта идея была стержнем так называемой «черной педагогики».
Ярче всего этот миф был воплощен в двух знаковых трудах, которые в начале прошлого века формировали сознание европейских родителей.
"Немецкая мать и ее первый ребенок" (своего рода "азбука" воспитания в Германии с 1930-х годов) пропагандировала идею, что младенца нельзя "баловать". Основные постулаты, основанные на ранней депривации:
Смысл этих методов заключался в том, чтобы как можно раньше сформировать у младенца и приучить его к депривации потребностей.
Доктор Даниэль Готлиб Мориц Шребер (отец знаменитого пациента Фрейда) был еще более радикален. В своих трудах XIX века он предлагал настоящие орудия пыток для воспитания «идеальной осанки» и послушания:
· «Удерживающие аппараты», не позволявшие ребенку сутулиться.
Шребер считал, что только так можно победить «прирожденную порочность» ребенка и воспитать в нем «высшие моральные качества». Его собственные дети, став взрослыми, оказались глубоко травмированными людьми, а один из его сыновей сошел с ума, что является страшной иллюстрацией последствий таких методов.
Современная нейробиология и психология развития однозначно доказали: практики ранней депривации и насилия не делают человека сильнее. Они калечат его нервную систему и психику.
Жизнь и развитие невозможны без стресса, но стресс бывает разным и стоит отличать развивающий стресс (эустресс) от травматического стресса (дистресс).
Для формирования здоровой, гармонично развитой личности, устойчивой к кризисам и стрессором ребенку нужен именно позитивный стресс — посильные задачи в области зоны ближайшего развития с учетом особенностей контекста, ресурса и индивидуальных особенностей конкретного ребенка в условиях надежной поддержки близкого взрослого.
Холод, голод и боль в одиночестве — это токсический стресс. Он разрушительно действует на развивающийся мозг: повреждает связи в префронтальной коре (отвечает за самоконтроль) и гиппокампе (память), и гиперактивирует миндалину (центр страха и тревоги).
Одним из самых тяжелых последствий ранней депривации является алекситимия — неспособность распознавать, называть и выражать собственные чувства.
Младенец и маленький ребенок не рождаются с готовым словарем эмоций. Они учатся понимать себя через реакцию взрослого. Мать, которая откликается на плач, утешает, называет чувства («Ты испугался», «Ты расстроился»), выполняет функцию «зеркала» и «контейнера» для эмоций ребенка.
Что происходит при депривации потребностей ребенка? Если на плач, улыбку или потребность в внимании ребенок получает в ответ холодность, раздражение или игнорирование, его эмоциональный опыт не находит отражения, подтверждения и удовлетворения. Психика делает вывод: «То, что я переживаю, не важно, неправильно или не существует». Чтобы выжить, ребенок учится отключаться от своих чувств и стоящих за ними потребностей. Он перестает их замечать, распознавать, называть.
Как это выглядит во взрослом возрасте? На вопрос близких "что с тобой происходит? что ты чувствуешь?" человек всегда формально отвечает "ничего" или "нормально".
Окружающие часто считают его поведение холодным, отстраненным как у «робота».
Ему сложно отличить физиологические потребностей от эмоциональных голод от грусти, усталость от раздражения.
Такой человек часто не понимает как вести себя вне очерченных формальными правилами отношений (рабочих, светских и т.д.). Эмоционально близкие, спонтанные и творческие формы взаимодействия вызывают растерянность, тревогу и отстранение.
Алекситимия — не полное отсутствие эмоций, а глубокое нарушение контакта с ними и собственными потребностями. Это делает человека уязвимым для психосоматических заболеваний, депрессии и всех видов зависимостей.
Проблемы с зависимостями возникают из за трудностей с саморегуляцией. Из за отсутствия навыка чуткой заботы, такой человек не умеет регулировать свои состояния экологично. В ситуации стресса такой человек склонен к попыткам "обезболить" свои переживания через употребление еды, психоактивных веществ или отвлечения внимания.
Помимо этого опят ранней депривации влияет на идентичность. Ребенок, чьи потребности систематически игнорировались, усваивает, что его действия не имеют значения, он слаб и не способен существенно повлиять на обстоятельства и качество своей жизни.
«Нужно пройти через испытания», «жизнь сурова, и нужно быть готовым к ней», «то, что не убивает, делает нас сильнее», «потом и кровью» — и тому подобные идеи могут быть глубоко укоренены в нас. Знакомые с трудами психиатра Станислава Грофа могут узнать в этом людей из второй и третьей базовой перинатальной матрицы (БПМ).
Мазохистические и садистические идеи сопровождают теневой аспект нарратива «пути Героя», в котором цель оправдывает средства, нечувствительность к боли — признак мужества, а подавление естественных потребностей ради «высших достижений» в будущем — триумф воли над изначально несовершенной человеческой природой.
Толерантность и идеализация страданий как неизбежного этапа на пути становления личности могут иметь несколько глубинных причин: трансгенерационные травмы коллективного опыта насилия, так называемый «синдром навязчивого повторения», искаженные ассоциации причины и следствия. Иногда истории успеха сопровождаются воспоминаниями об агрессии и унижении со стороны тренера; создается иллюзия, что без насилия не вырос бы такой олимпийский чемпион. Или что без насилия над собой не было бы успешного бизнеса у предпринимателя.
Реальные факторы успеха при анализе биографии часто другие: таких людей спасла собственная устойчивая нервная система, наличие хотя бы одного поддерживающего взрослого (бабушки, учителя) или случайность.
За каждый такой «успех» мы не видим десятков сломленных судеб, которые закончились депрессией, аддикциями и несформированной личностью. Сравнивать нужно не «было насилие — стал успешным», а «несмотря на насилие — стал успешным, а мог бы быть им с меньшими потерями и более здоровой психикой».
Для реализации целей необходимы усилия, но усилия не равны насилию.
Да, в некоторых случаях путь к достижениям в том числе к сожалению проходил через жестокость и унижение. Но существуют и примеры, в которых трудолюбие и дисциплина не были связаны с принуждением и подавлением воли ребенка.
Путь жестокости и унижения многим в том числе "ломал дух" являясь причиной тяжелых пост травматических расстройств, тяжелых депрессий, суицидов, кризисных состояний, госпитализаций в психиатрические больницы, тюрьмы и реабилитационные центры для алко- и наркозависимых.
Исторически сложилось и до сих пор существует опасное заблуждение: чтобы сделать ребенка сильным и стрессоустойчивым, его нужно с младенчества подвергать лишениям, жесткой дисциплине и физическим испытаниям. Считалось, что чем раньше и больше ребенок переживает нехваток и боли, тем «закаленнее» будет его дух во взрослой жизни. Эта идея была стержнем так называемой «черной педагогики».
Ярче всего этот миф был воплощен в двух знаковых трудах, которые в начале прошлого века формировали сознание европейских родителей.
"Немецкая мать и ее первый ребенок" (своего рода "азбука" воспитания в Германии с 1930-х годов) пропагандировала идею, что младенца нельзя "баловать". Основные постулаты, основанные на ранней депривации:
- Жесткий режим кормления. Кормить строго по часам, не обращая внимания на плач голодного ребенка. Считалось, что это учит его дисциплине и подавляет «тиранические инстинкты» младенца.
- Минимум телесного контакта. Не брать на руки "без нужды", не укачивать, не проявлять излишнюю нежность, чтобы не "разбаловать".
Смысл этих методов заключался в том, чтобы как можно раньше сформировать у младенца и приучить его к депривации потребностей.
Доктор Даниэль Готлиб Мориц Шребер (отец знаменитого пациента Фрейда) был еще более радикален. В своих трудах XIX века он предлагал настоящие орудия пыток для воспитания «идеальной осанки» и послушания:
· «Удерживающие аппараты», не позволявшие ребенку сутулиться.
- Ремни и упоры, которые фиксировали тело в неестественном положении на долгие часы.
- Систематические холодные обливания и строжайший режим.
Шребер считал, что только так можно победить «прирожденную порочность» ребенка и воспитать в нем «высшие моральные качества». Его собственные дети, став взрослыми, оказались глубоко травмированными людьми, а один из его сыновей сошел с ума, что является страшной иллюстрацией последствий таких методов.
Современная нейробиология и психология развития однозначно доказали: практики ранней депривации и насилия не делают человека сильнее. Они калечат его нервную систему и психику.
Жизнь и развитие невозможны без стресса, но стресс бывает разным и стоит отличать развивающий стресс (эустресс) от травматического стресса (дистресс).
Для формирования здоровой, гармонично развитой личности, устойчивой к кризисам и стрессором ребенку нужен именно позитивный стресс — посильные задачи в области зоны ближайшего развития с учетом особенностей контекста, ресурса и индивидуальных особенностей конкретного ребенка в условиях надежной поддержки близкого взрослого.
Холод, голод и боль в одиночестве — это токсический стресс. Он разрушительно действует на развивающийся мозг: повреждает связи в префронтальной коре (отвечает за самоконтроль) и гиппокампе (память), и гиперактивирует миндалину (центр страха и тревоги).
Одним из самых тяжелых последствий ранней депривации является алекситимия — неспособность распознавать, называть и выражать собственные чувства.
Младенец и маленький ребенок не рождаются с готовым словарем эмоций. Они учатся понимать себя через реакцию взрослого. Мать, которая откликается на плач, утешает, называет чувства («Ты испугался», «Ты расстроился»), выполняет функцию «зеркала» и «контейнера» для эмоций ребенка.
Что происходит при депривации потребностей ребенка? Если на плач, улыбку или потребность в внимании ребенок получает в ответ холодность, раздражение или игнорирование, его эмоциональный опыт не находит отражения, подтверждения и удовлетворения. Психика делает вывод: «То, что я переживаю, не важно, неправильно или не существует». Чтобы выжить, ребенок учится отключаться от своих чувств и стоящих за ними потребностей. Он перестает их замечать, распознавать, называть.
Как это выглядит во взрослом возрасте? На вопрос близких "что с тобой происходит? что ты чувствуешь?" человек всегда формально отвечает "ничего" или "нормально".
Окружающие часто считают его поведение холодным, отстраненным как у «робота».
Ему сложно отличить физиологические потребностей от эмоциональных голод от грусти, усталость от раздражения.
Такой человек часто не понимает как вести себя вне очерченных формальными правилами отношений (рабочих, светских и т.д.). Эмоционально близкие, спонтанные и творческие формы взаимодействия вызывают растерянность, тревогу и отстранение.
Алекситимия — не полное отсутствие эмоций, а глубокое нарушение контакта с ними и собственными потребностями. Это делает человека уязвимым для психосоматических заболеваний, депрессии и всех видов зависимостей.
Проблемы с зависимостями возникают из за трудностей с саморегуляцией. Из за отсутствия навыка чуткой заботы, такой человек не умеет регулировать свои состояния экологично. В ситуации стресса такой человек склонен к попыткам "обезболить" свои переживания через употребление еды, психоактивных веществ или отвлечения внимания.
Помимо этого опят ранней депривации влияет на идентичность. Ребенок, чьи потребности систематически игнорировались, усваивает, что его действия не имеют значения, он слаб и не способен существенно повлиять на обстоятельства и качество своей жизни.
«Нужно пройти через испытания», «жизнь сурова, и нужно быть готовым к ней», «то, что не убивает, делает нас сильнее», «потом и кровью» — и тому подобные идеи могут быть глубоко укоренены в нас. Знакомые с трудами психиатра Станислава Грофа могут узнать в этом людей из второй и третьей базовой перинатальной матрицы (БПМ).
Мазохистические и садистические идеи сопровождают теневой аспект нарратива «пути Героя», в котором цель оправдывает средства, нечувствительность к боли — признак мужества, а подавление естественных потребностей ради «высших достижений» в будущем — триумф воли над изначально несовершенной человеческой природой.
Толерантность и идеализация страданий как неизбежного этапа на пути становления личности могут иметь несколько глубинных причин: трансгенерационные травмы коллективного опыта насилия, так называемый «синдром навязчивого повторения», искаженные ассоциации причины и следствия. Иногда истории успеха сопровождаются воспоминаниями об агрессии и унижении со стороны тренера; создается иллюзия, что без насилия не вырос бы такой олимпийский чемпион. Или что без насилия над собой не было бы успешного бизнеса у предпринимателя.
Реальные факторы успеха при анализе биографии часто другие: таких людей спасла собственная устойчивая нервная система, наличие хотя бы одного поддерживающего взрослого (бабушки, учителя) или случайность.
За каждый такой «успех» мы не видим десятков сломленных судеб, которые закончились депрессией, аддикциями и несформированной личностью. Сравнивать нужно не «было насилие — стал успешным», а «несмотря на насилие — стал успешным, а мог бы быть им с меньшими потерями и более здоровой психикой».
Для реализации целей необходимы усилия, но усилия не равны насилию.
Да, в некоторых случаях путь к достижениям в том числе к сожалению проходил через жестокость и унижение. Но существуют и примеры, в которых трудолюбие и дисциплина не были связаны с принуждением и подавлением воли ребенка.
Путь жестокости и унижения многим в том числе "ломал дух" являясь причиной тяжелых пост травматических расстройств, тяжелых депрессий, суицидов, кризисных состояний, госпитализаций в психиатрические больницы, тюрьмы и реабилитационные центры для алко- и наркозависимых.
МИФ 5. ТАК ЛУЧШЕ И БЫСТРЕЕ ПОНИМАЕТ
"Иногда по-другому просто не доходит..."
"Пока мне родители не давали ремня я вообще "на ушах" стояла"
"Да ему хоть заобъясняйся!"
Физическая боль не формирует навыки, не развивает мышление, не развивает осознанность.
Она вызывает:
Ребёнок, которого бьют, не обучается пониманию причинно - следственных связей. На уровне функционирования его мозга в стрессе его когнитивные способности снижаются.
Он лишь учится бояться боли , нанесенной ему близким человеком, от которого он зависит.
«По-другому не доходит»: что стоит за этим аргументом?
Одним из самых частых оправданий физического наказания звучит так:
«Он не понимает слов», «Иначе не достучишься», «Я уже всё объяснила 100 раз»,
а дальше — «пришлось применить силу.. не получается по - хорошему у нас».
Но стоит задать важный вопрос:
а действительно ли родитель ставит задачей — научить ребенка пониманию?
Или под этим рассказом скрываются совсем иной сюжет?
При работе с родителями довольно часто оказывается, что родитель, прибегающий к насилию, не всегда (а часто — совсем не) ставил перед собой задачу развить мышление, осознанность или понимание в ребёнке.
Применение физической силы было скорее всего реакцией на фрустрацию родителя и применялось как инструмент для быстрой остановки нежелательного поведения, разрядки собственного напряжения или подтверждения контроля над ситуацией.
"Пока мне родители не давали ремня я вообще "на ушах" стояла"
"Да ему хоть заобъясняйся!"
Физическая боль не формирует навыки, не развивает мышление, не развивает осознанность.
Она вызывает:
- страх ( последствий и повторения ),
- отстранение от родителя (потеря доверия и нарушение привязанности),
- выученную беспомощность
- стыд и невротическую вину (во всем виноват)
- агрессия (внутрь или наружу)
- повышенная тревожность
Ребёнок, которого бьют, не обучается пониманию причинно - следственных связей. На уровне функционирования его мозга в стрессе его когнитивные способности снижаются.
Он лишь учится бояться боли , нанесенной ему близким человеком, от которого он зависит.
«По-другому не доходит»: что стоит за этим аргументом?
Одним из самых частых оправданий физического наказания звучит так:
«Он не понимает слов», «Иначе не достучишься», «Я уже всё объяснила 100 раз»,
а дальше — «пришлось применить силу.. не получается по - хорошему у нас».
Но стоит задать важный вопрос:
а действительно ли родитель ставит задачей — научить ребенка пониманию?
Или под этим рассказом скрываются совсем иной сюжет?
При работе с родителями довольно часто оказывается, что родитель, прибегающий к насилию, не всегда (а часто — совсем не) ставил перед собой задачу развить мышление, осознанность или понимание в ребёнке.
Применение физической силы было скорее всего реакцией на фрустрацию родителя и применялось как инструмент для быстрой остановки нежелательного поведения, разрядки собственного напряжения или подтверждения контроля над ситуацией.
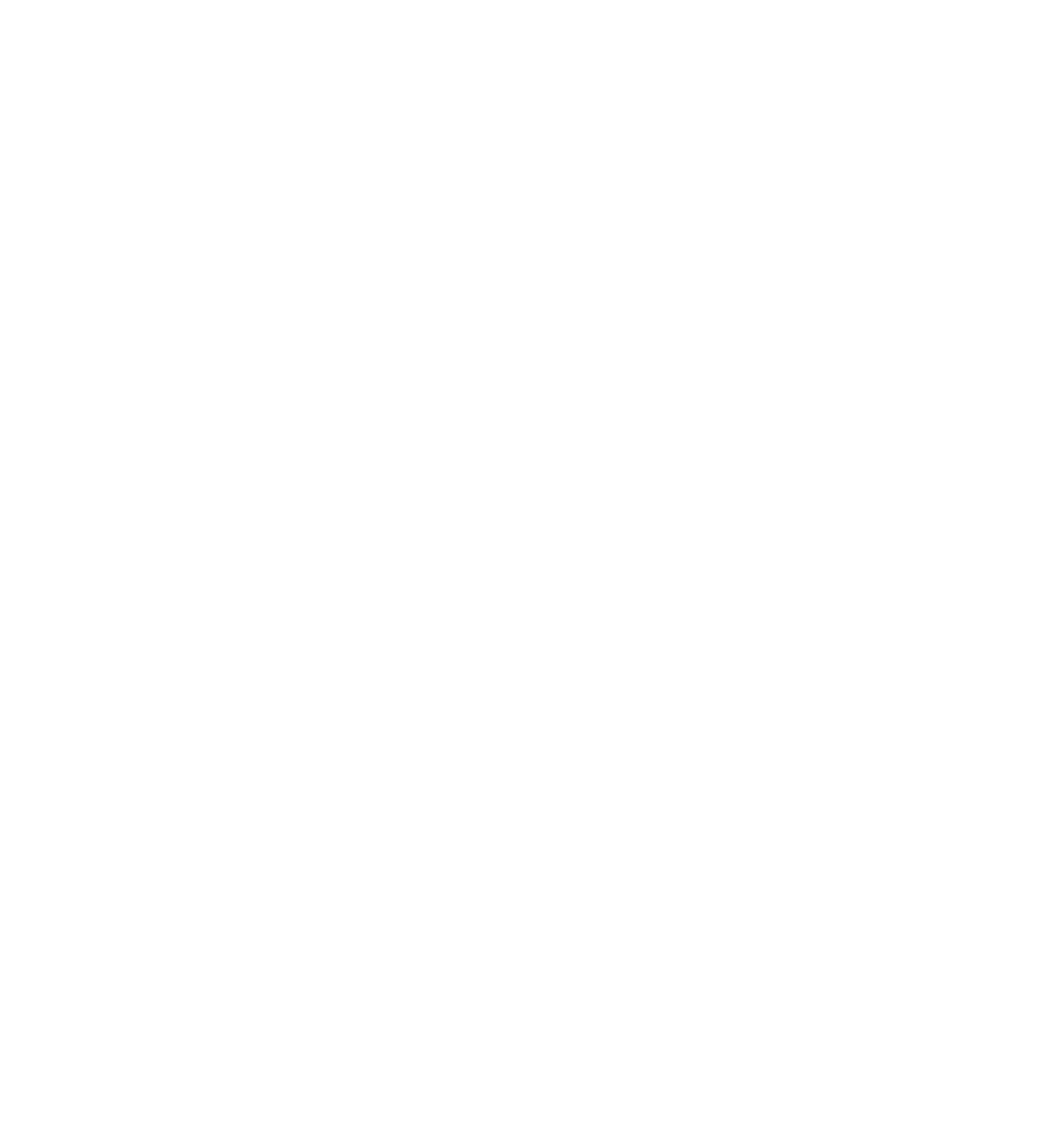
«По-другому не доходит»: что стоит за этим аргументом?
Одним из самых частых оправданий физического наказания звучит так:
«Он не понимает слов», «До него не доходит», «Я уже всё объяснил»,
а дальше — «пришлось применить силу».
Но стоит задать важный вопрос: а действительно ли у родителя была задача — научить понимать?
Или под этой фразой скрываются совсем иные цели?
На деле оказывается, что родитель, прибегающий к насилию, не всегда (а часто — совсем не) ставит перед собой задачу развить мышление, осознанность или понимание в ребёнке.
Физическое наказание — это, скорее, инструмент быстрой остановки нежелательного поведения, разрядки собственного напряжения или подтверждения власти.
Одним из самых частых оправданий физического наказания звучит так:
«Он не понимает слов», «До него не доходит», «Я уже всё объяснил»,
а дальше — «пришлось применить силу».
Но стоит задать важный вопрос: а действительно ли у родителя была задача — научить понимать?
Или под этой фразой скрываются совсем иные цели?
На деле оказывается, что родитель, прибегающий к насилию, не всегда (а часто — совсем не) ставит перед собой задачу развить мышление, осознанность или понимание в ребёнке.
Физическое наказание — это, скорее, инструмент быстрой остановки нежелательного поведения, разрядки собственного напряжения или подтверждения власти.
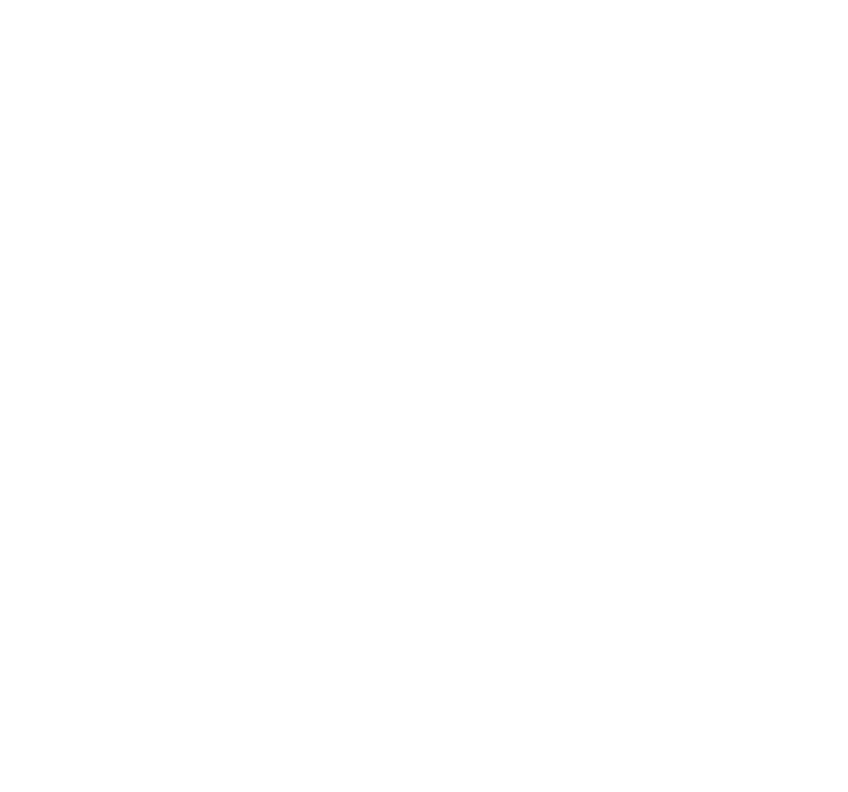
ПРИМЕР:
Представим типичную ситуацию: ребёнок отказывается чистить зубы.
Родитель повторяет несколько раз - ребенок не хочет чистить. Стресс растет, родитель повышает голос, нарастает раздражение — ребенок как ни хотел, так и не хочет чистить зубы. В итоге, раздражаясь еще больше, родитель шлёпает ребёнка, кричит: "я кому сказал: быстро почистил зубы!!"
После этого напуганный и расстроенный ребёнок в слезах идёт в ванную, чистить зубы.
Родитель тоже в стрессе, переполненный различными чувствами, в надежде думает : «ну вот, понял наконец! Наконец - дошло! ».
Но что именно он понял?!
На поверхности кажется, что ребёнок усвоил то, что зубы нужно чистить , и теперь впредь будет делать это.
Все взрослые (я предполагаю) знают о том, что это нет так.. И на завтра и послезавтра история повторится. И снова такой родитель будет пугать и применять насилие.
Но если мы посмотрим на последствия глубже, окажется:
Он просто сделал действие, чтобы избежать боли.
И теперь он "знает" : «если я не послушаюсь и не сделаю то, что от меня хотят — будет больно». Или скорее всего понял то, что этот большой человек, которому я раньше доверял - опасный.
Родитель повторяет несколько раз - ребенок не хочет чистить. Стресс растет, родитель повышает голос, нарастает раздражение — ребенок как ни хотел, так и не хочет чистить зубы. В итоге, раздражаясь еще больше, родитель шлёпает ребёнка, кричит: "я кому сказал: быстро почистил зубы!!"
После этого напуганный и расстроенный ребёнок в слезах идёт в ванную, чистить зубы.
Родитель тоже в стрессе, переполненный различными чувствами, в надежде думает : «ну вот, понял наконец! Наконец - дошло! ».
Но что именно он понял?!
На поверхности кажется, что ребёнок усвоил то, что зубы нужно чистить , и теперь впредь будет делать это.
Все взрослые (я предполагаю) знают о том, что это нет так.. И на завтра и послезавтра история повторится. И снова такой родитель будет пугать и применять насилие.
Но если мы посмотрим на последствия глубже, окажется:
- ребёнок не понял смысла чистки зубов и гигиены
- не усвоил знания о вредных бактериях, кариесе и смысле профилактики
- не сформировал вдохновляющую мотивацию (да, она бывает!) чистить зубы
Он просто сделал действие, чтобы избежать боли.
И теперь он "знает" : «если я не послушаюсь и не сделаю то, что от меня хотят — будет больно». Или скорее всего понял то, что этот большой человек, которому я раньше доверял - опасный.
В том числе за "воспитательным актом наказаний ради понимания" часто стоит не продуманная педагогическая стратегия, а обыкновенная человеческая реакция на фрустрацию. Мы люди, мы срываемся. Это наша слабость..
Родитель, исчерпавший свои ресурсы, не зная, как еще повлиять на формирование желаемого поведения ребенка, чувствует беспомощность — и тогда происходит отреагирование этой энергии фрустрации вовне через агрессивные действия.
Мы можем пнуть не открывающуюся на десятый раз входную дверь, швырнуть телефон после неприятного звонка, выругаться на соседние машины, выяснив, что в очередной раз опаздываем на работу, попав в пробку.
Злость - естественная реакция на фрустрацию и бессилие. Но. мы же не считаем, что выражая злость мы таким образом мы проявляем свои просветительские навыки и прилагаем продуктивные усилия на пути понимания. Мы просто выпускаем "пар", разряжаем накопившийся стресс посредством древней реакции "бей". После отреагирования, накопившийся стресс стихает и к нам снова возвращается способность более - менее ясно соображать.
Важно подчеркнуть - следуя импульсу отреагирования посредством программы "бей" мы реагируем- не используем какую то сознательно продуманную стратегию. Но наша с Вами, взрослая психика, сформированная в точно такой же системе наказаний за несоответствующее поведение не можем расписаться в родительской несостоятельность и склонности и вспыльчивым, мстительным и агрессивным поступкам. Это означало бы проводиться в чувство вины и жгучего стыда. Встретиться с пониманием отсутствия навыков.. Куда проще обвинить ребенка в том, что он не оставляет выбора и доводит до этой ситуации несмотря на наши попытки объяснить "по - хорошему" ..
Правда и в том, в том, что не все мы с рождением ребенка превращаемся в наставников маленьких детей. Не у каждого взрослого есть даже навык спокойно объяснять, мягко направлять, терпеливо ждать других взрослых. Особенно эти способности необходимы в том случае, когда перед ним — не взрослый человек, а маленький, эмоционально незрелый, неуправляемый в своей спонтанности ребёнок.
И в этом нет стыда. Мы не обязаны быть идеальными педагогами сразу — но мы обязаны стремиться не причинять вреда зависимым от нас детям. В том числе от собственной несовершенной природы и непроработанных проблем, никак не связанных с ребенком
Применение том или иной агрессии в отношениях — неизбежное поведение связанное с фрустрацией и невыдерживанием стресса и педагогической беспомощностью. Это не знак нашей силы как родителя, это симптом того, что нам нужна поддержка и обучение.
Это сигнал о том, что человек утратил связь с собой, с ребёнком и со своими воспитательными компетенциями. И в этой точке не ребёнку нужен урок — а родителю нужна поддержка: новые инструменты, знание, помощь и право быть уязвимым, не превращаясь в агрессора.
Страх последствий не равен осознанию. Формирование понимания — это когнитивный процесс, в котором ребёнок:
получает информацию, осмысливает причины и следствия (что будет с зубами, если их не чистить), связывает заботу о теле с внутренней мотивацией, учится принимать решения. И этот процесс в целом касается важного навыка обучения тому как устроен этот мир.
Быть сопровождающим гидом для ребенка в подобных процессах гораздо более сложный и длительный длительный процесс, нежели удар и требует терпения и навыков.
Далеко не всех из нас обладают знаниями и стратегиями обучения маленьких детей. Некоторым в целом неизвестно искусство мотивации, позитивного подкрепления и систематического обучения. Причем ни в отношении других, ни себя.
Некоторым взрослым повезло с примером дома (родители терпеливо объясняли и поясняли), вовремя прочитанной литературы, занятиями с психологом или специальным курсам по развитию детей.
Да, родители абсолютно правы - ребенок может не понимать! Но что мы знаем о том как воспринимает и понимает ребенок разного возраста? Маленькие дети не способны полноценно осознать такие абстрактные понятия как "бактерии", "кариес", и так далее. Для этого необходимо уделить этому достаточно времени и поискать те способы передачи информации, которые доступны в таком возрасте (игра, тематические сказки и т.д.). Ребенок может не понимать значение новых слов или в целом не осознавать что имеется ввиду по словом "образуется кариес и придется идти к стоматологу " (образуется абвгд и придется идти к еёжз).
Читая подобную информацию у некоторых родителей обычно может начать подступает отчаяние из за отсутствия навыков обучения маленьких детей: "Да я с ума сойду если буду так все время все разжевывать. Дам по заднице - дойдет без этих ваших расшаркиваний и соплей. У меня вон - дел полно".
Повторим еще раз. Если аргумент применения физической боли это понимание - его тут нет. Страх боли и последствий не обучают тому для чего важно что либо делать или не делать.
Остановка или продолжение поведения из за страха последствий - примитивная реакция выживания.
Она формирует стратегию: «делай, как сказали — чтобы не было больно».
Но поскольку понимания нет - ребенок не осознает почему нельзя или что то важно делать. И он может продолжать воспроизводить то или иное нежелательное поведение но.. просто избегая нас как потенциальных агрессоров. Наказания учат детей виртуозно врать, лицемерить, манипулировать, "переводить стрелки" и всячески избегать любого разоблачения и признания ошибок.
Рекомендуем к просмотру видео психолога Александра Колмановского на эту тему.
Во многих семьях послушание называют «воспитательным успехом»:
«Ребёнок понял, что нельзя капризничать», "Понял, как надо себя вести".
Но в действительности он не понял, а подчинился. Не развился, а приспособился. Он сделал то, что от него хотят, не потому что осознал, а потому что боится. Такой «послушный» ребёнок будет чистить зубы — но не из заботы о здоровье, а из страха наказания. И этот паттерн будет переноситься на всю жизнь: делать то, что надо — не потому что это его выбор, а чтобы не получить боль/стыд/наказание/отвержение.
Стоит отметить и то, что когда ребёнка наказывают за отказ или сопротивление, он перестаёт быть доступным для диалога.
Он закрывается, испытывает стресс, и его нервная система переключается из режима обучения в режим самозащиты.
А это значит: всё, что взрослый пытается объяснить после наказания, — не усваивается.
Настоящее обучение — это не «как заставить», а как помочь понять.
В ситуации с зубами это может быть:
игра (почистим зубки кукле),
рассказ (в зубах живут микробы),
объяснение (здоровые зубы не болят),
участие взрослого (я с тобой в ванну, вместе чистим),
терпение и уважение к возрастным «нет».
Это дольше, требует больше ресурса, эмоциональной зрелости.
Но именно это — и есть воспитание. Не дрессировка через боль, а развитие мышления через связь и поддержку.
Родитель, исчерпавший свои ресурсы, не зная, как еще повлиять на формирование желаемого поведения ребенка, чувствует беспомощность — и тогда происходит отреагирование этой энергии фрустрации вовне через агрессивные действия.
Мы можем пнуть не открывающуюся на десятый раз входную дверь, швырнуть телефон после неприятного звонка, выругаться на соседние машины, выяснив, что в очередной раз опаздываем на работу, попав в пробку.
Злость - естественная реакция на фрустрацию и бессилие. Но. мы же не считаем, что выражая злость мы таким образом мы проявляем свои просветительские навыки и прилагаем продуктивные усилия на пути понимания. Мы просто выпускаем "пар", разряжаем накопившийся стресс посредством древней реакции "бей". После отреагирования, накопившийся стресс стихает и к нам снова возвращается способность более - менее ясно соображать.
Важно подчеркнуть - следуя импульсу отреагирования посредством программы "бей" мы реагируем- не используем какую то сознательно продуманную стратегию. Но наша с Вами, взрослая психика, сформированная в точно такой же системе наказаний за несоответствующее поведение не можем расписаться в родительской несостоятельность и склонности и вспыльчивым, мстительным и агрессивным поступкам. Это означало бы проводиться в чувство вины и жгучего стыда. Встретиться с пониманием отсутствия навыков.. Куда проще обвинить ребенка в том, что он не оставляет выбора и доводит до этой ситуации несмотря на наши попытки объяснить "по - хорошему" ..
Правда и в том, в том, что не все мы с рождением ребенка превращаемся в наставников маленьких детей. Не у каждого взрослого есть даже навык спокойно объяснять, мягко направлять, терпеливо ждать других взрослых. Особенно эти способности необходимы в том случае, когда перед ним — не взрослый человек, а маленький, эмоционально незрелый, неуправляемый в своей спонтанности ребёнок.
И в этом нет стыда. Мы не обязаны быть идеальными педагогами сразу — но мы обязаны стремиться не причинять вреда зависимым от нас детям. В том числе от собственной несовершенной природы и непроработанных проблем, никак не связанных с ребенком
Применение том или иной агрессии в отношениях — неизбежное поведение связанное с фрустрацией и невыдерживанием стресса и педагогической беспомощностью. Это не знак нашей силы как родителя, это симптом того, что нам нужна поддержка и обучение.
Это сигнал о том, что человек утратил связь с собой, с ребёнком и со своими воспитательными компетенциями. И в этой точке не ребёнку нужен урок — а родителю нужна поддержка: новые инструменты, знание, помощь и право быть уязвимым, не превращаясь в агрессора.
Страх последствий не равен осознанию. Формирование понимания — это когнитивный процесс, в котором ребёнок:
получает информацию, осмысливает причины и следствия (что будет с зубами, если их не чистить), связывает заботу о теле с внутренней мотивацией, учится принимать решения. И этот процесс в целом касается важного навыка обучения тому как устроен этот мир.
Быть сопровождающим гидом для ребенка в подобных процессах гораздо более сложный и длительный длительный процесс, нежели удар и требует терпения и навыков.
Далеко не всех из нас обладают знаниями и стратегиями обучения маленьких детей. Некоторым в целом неизвестно искусство мотивации, позитивного подкрепления и систематического обучения. Причем ни в отношении других, ни себя.
Некоторым взрослым повезло с примером дома (родители терпеливо объясняли и поясняли), вовремя прочитанной литературы, занятиями с психологом или специальным курсам по развитию детей.
Да, родители абсолютно правы - ребенок может не понимать! Но что мы знаем о том как воспринимает и понимает ребенок разного возраста? Маленькие дети не способны полноценно осознать такие абстрактные понятия как "бактерии", "кариес", и так далее. Для этого необходимо уделить этому достаточно времени и поискать те способы передачи информации, которые доступны в таком возрасте (игра, тематические сказки и т.д.). Ребенок может не понимать значение новых слов или в целом не осознавать что имеется ввиду по словом "образуется кариес и придется идти к стоматологу " (образуется абвгд и придется идти к еёжз).
Читая подобную информацию у некоторых родителей обычно может начать подступает отчаяние из за отсутствия навыков обучения маленьких детей: "Да я с ума сойду если буду так все время все разжевывать. Дам по заднице - дойдет без этих ваших расшаркиваний и соплей. У меня вон - дел полно".
Повторим еще раз. Если аргумент применения физической боли это понимание - его тут нет. Страх боли и последствий не обучают тому для чего важно что либо делать или не делать.
Остановка или продолжение поведения из за страха последствий - примитивная реакция выживания.
Она формирует стратегию: «делай, как сказали — чтобы не было больно».
Но поскольку понимания нет - ребенок не осознает почему нельзя или что то важно делать. И он может продолжать воспроизводить то или иное нежелательное поведение но.. просто избегая нас как потенциальных агрессоров. Наказания учат детей виртуозно врать, лицемерить, манипулировать, "переводить стрелки" и всячески избегать любого разоблачения и признания ошибок.
Рекомендуем к просмотру видео психолога Александра Колмановского на эту тему.
Во многих семьях послушание называют «воспитательным успехом»:
«Ребёнок понял, что нельзя капризничать», "Понял, как надо себя вести".
Но в действительности он не понял, а подчинился. Не развился, а приспособился. Он сделал то, что от него хотят, не потому что осознал, а потому что боится. Такой «послушный» ребёнок будет чистить зубы — но не из заботы о здоровье, а из страха наказания. И этот паттерн будет переноситься на всю жизнь: делать то, что надо — не потому что это его выбор, а чтобы не получить боль/стыд/наказание/отвержение.
Стоит отметить и то, что когда ребёнка наказывают за отказ или сопротивление, он перестаёт быть доступным для диалога.
Он закрывается, испытывает стресс, и его нервная система переключается из режима обучения в режим самозащиты.
А это значит: всё, что взрослый пытается объяснить после наказания, — не усваивается.
Настоящее обучение — это не «как заставить», а как помочь понять.
В ситуации с зубами это может быть:
игра (почистим зубки кукле),
рассказ (в зубах живут микробы),
объяснение (здоровые зубы не болят),
участие взрослого (я с тобой в ванну, вместе чистим),
терпение и уважение к возрастным «нет».
Это дольше, требует больше ресурса, эмоциональной зрелости.
Но именно это — и есть воспитание. Не дрессировка через боль, а развитие мышления через связь и поддержку.
Даже в дрессировке животных это не работает.
Парадокс, который невозможно не заметить: даже у животных, обладающих значительно меньшим уровнем сознания, чем человек, физическое наказание считается неэффективным и вредным способом обучения.
Зоопсихологи, кинологи, тренеры и даже опытные владельцы домашних животных хорошо знают:
болевые методы — не обучают, они разрушают доверием и приводят к агрессии, тревожности или апатии.
Что происходит с животным при наказании?
Если собаку, кошку или лошадь ударить «за непослушание»: она станет боятся самого человека, а не своего поведения,
она начинает избегать контакта, либо становится агрессивной или зажатой,
потеряет теряет инициативу и выработает "выученную беспомощность".
Такое животное становится либо нервным и непредсказуемым, либо заторможенным и пассивным. В обоих случаях — речь идёт не о воспитанности, а об искажённой реакции на постоянную угрозу.
Профессиональные кинологи давно придерживаются концепции позитивного подкрепления:
поощрение желаемого поведения, создание безопасной среды, работа через связь и последовательность. Они знают: только в условиях доверия животное способно усвоить команды, откликаться и сотрудничать. А теперь зададимся вопросом: почему к ребёнку — существу с гораздо более сложной психикой, эмоциональной чувствительностью и правом на защиту — мы относимся грубее, чем к собаке?
Парадокс, который невозможно не заметить: даже у животных, обладающих значительно меньшим уровнем сознания, чем человек, физическое наказание считается неэффективным и вредным способом обучения.
Зоопсихологи, кинологи, тренеры и даже опытные владельцы домашних животных хорошо знают:
болевые методы — не обучают, они разрушают доверием и приводят к агрессии, тревожности или апатии.
Что происходит с животным при наказании?
Если собаку, кошку или лошадь ударить «за непослушание»: она станет боятся самого человека, а не своего поведения,
она начинает избегать контакта, либо становится агрессивной или зажатой,
потеряет теряет инициативу и выработает "выученную беспомощность".
Такое животное становится либо нервным и непредсказуемым, либо заторможенным и пассивным. В обоих случаях — речь идёт не о воспитанности, а об искажённой реакции на постоянную угрозу.
Профессиональные кинологи давно придерживаются концепции позитивного подкрепления:
поощрение желаемого поведения, создание безопасной среды, работа через связь и последовательность. Они знают: только в условиях доверия животное способно усвоить команды, откликаться и сотрудничать. А теперь зададимся вопросом: почему к ребёнку — существу с гораздо более сложной психикой, эмоциональной чувствительностью и правом на защиту — мы относимся грубее, чем к собаке?
Это может показаться абсурдным, но в жизни мы нередко сталкиваемся с ситуациями, где взрослые относятся к животным с большим уважением и гуманностью, чем к детям.
Примеры из жизни:
«Я не могу кричать на собаку — она испугается...»
Но при этом тот же взрослый может накричать на ребёнка, потому что «иначе он не понимает».
«Собака боится громких звуков, я стараюсь говорить с ней мягко»
А ребёнку — в лицо резкое: «Замолчи! Не ори!» — не обращая внимания на его пугливый или чувствительный темперамент.
«Если ударишь собаку — она станет агрессивной, этого делать нельзя!»
Но ребёнка — можно шлёпнуть, «чтобы знал», «для воспитания».
«Я не хочу оставлять кота одного — он расстроится»
А ребёнка можно на несколько часов посадить в угол, «пусть подумает» — в изоляции и без поддержки.
«У щенка травма — я веду его к специалисту»
А ребёнку с эмоциональными проблемами говорят: «Сам виноват», «Перестань себя жалеть», вместо обращения к психологу.
Откуда это берётся?
С животными мы не конкурируем. Они заведомо слабее и не способны ставить под сомнение наш родительский авторитет.
Мы не переносим на животных свои травмы, свой стыд, свою потребность быть идеальным и значимым родителем.
Мы не проецируем на них: «если он ведёт себя плохо — значит, я плохой хозяин».
Поэтому с животными проще быть эмпатичными. Нам проще включить терпение и заботу, потому что мы не чувствуем личного поражения, если они не "слушаются". Хотя конечно существует огромное количество примеров жестокого обращения с животными (иногда тоже якобы из самых лучших воспитательных побуждений.
Всем, кто хочет более подробно познакомиться с ненасильственным подходом в воспитании детей, основанной на поведенческой терапии я рекомендую книгу Керен Прайор "Не рычите на собаку".
Примеры из жизни:
«Я не могу кричать на собаку — она испугается...»
Но при этом тот же взрослый может накричать на ребёнка, потому что «иначе он не понимает».
«Собака боится громких звуков, я стараюсь говорить с ней мягко»
А ребёнку — в лицо резкое: «Замолчи! Не ори!» — не обращая внимания на его пугливый или чувствительный темперамент.
«Если ударишь собаку — она станет агрессивной, этого делать нельзя!»
Но ребёнка — можно шлёпнуть, «чтобы знал», «для воспитания».
«Я не хочу оставлять кота одного — он расстроится»
А ребёнка можно на несколько часов посадить в угол, «пусть подумает» — в изоляции и без поддержки.
«У щенка травма — я веду его к специалисту»
А ребёнку с эмоциональными проблемами говорят: «Сам виноват», «Перестань себя жалеть», вместо обращения к психологу.
Откуда это берётся?
С животными мы не конкурируем. Они заведомо слабее и не способны ставить под сомнение наш родительский авторитет.
Мы не переносим на животных свои травмы, свой стыд, свою потребность быть идеальным и значимым родителем.
Мы не проецируем на них: «если он ведёт себя плохо — значит, я плохой хозяин».
Поэтому с животными проще быть эмпатичными. Нам проще включить терпение и заботу, потому что мы не чувствуем личного поражения, если они не "слушаются". Хотя конечно существует огромное количество примеров жестокого обращения с животными (иногда тоже якобы из самых лучших воспитательных побуждений.
Всем, кто хочет более подробно познакомиться с ненасильственным подходом в воспитании детей, основанной на поведенческой терапии я рекомендую книгу Керен Прайор "Не рычите на собаку".
История защиты прав детей — это история боли, молчания и удивительно позднего пробуждения. Пока взрослые мужчины писали законы, защищающие имущество, животных и даже растения, дети оставались незащищёнными. Их били, эксплуатировали, унижали — и считали, что это «внутреннее дело семьи».
Но однажды всё изменилось. Благодаря одной девочке. И одной женщине, которая не смогла пройти мимо.
Маленькая девочка по имени Мэри Эллен росла в нищете, страдая от жестокого обращения со стороны своей приёмной матери. Она жила в тени — избиваемая, лишённая нормальной одежды, заботы, света. Она не имела прав — потому что права детей в законе просто не существовали.
На её страдания случайно обратила внимание социальная работница Этта Энджелл Уилер, услышав от соседки историю про «девочку, которую всё время бьют». Этта попыталась добиться юридической помощи, но оказалось: в американском законодательстве нет статьи, по которой можно было бы защитить ребёнка от насилия в семье.
Оказавшись в юридическом тупике, Этта сделала то, что стало поворотным моментом в истории защиты детей.
Она обратилась за помощью к Генри Бергу — активисту и основателю Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA).
Именно он, человек, спасавший лошадей от избиений и кошек от отлова, согласился:
«Если ребёнка нельзя защитить как человека — давайте защитим её как животное».
На суде Мэри Эллен вышла в лошадиной попоне, чтобы визуально подчеркнуть абсурд ситуации:
раз общество готово защищать животных, но не признаёт страдания ребёнка — пусть тогда хотя бы животное в человеческом обличье получит защиту.
Иск был удовлетворён. Девочку изъяли из семьи и поместили в заботливую опеку.
А сразу после этого дела в 1875 году было основано Нью-Йоркское общество по защите детей — первая организация в мире, поставившая своей задачей защиту прав ребёнка.
Это был прорыв.
С тех пор общественное сознание медленно, но неотвратимо начало сдвигаться: детство переставало быть собственностью взрослых — и становилось ценностью, требующей охраны.
Но однажды всё изменилось. Благодаря одной девочке. И одной женщине, которая не смогла пройти мимо.
Маленькая девочка по имени Мэри Эллен росла в нищете, страдая от жестокого обращения со стороны своей приёмной матери. Она жила в тени — избиваемая, лишённая нормальной одежды, заботы, света. Она не имела прав — потому что права детей в законе просто не существовали.
На её страдания случайно обратила внимание социальная работница Этта Энджелл Уилер, услышав от соседки историю про «девочку, которую всё время бьют». Этта попыталась добиться юридической помощи, но оказалось: в американском законодательстве нет статьи, по которой можно было бы защитить ребёнка от насилия в семье.
Оказавшись в юридическом тупике, Этта сделала то, что стало поворотным моментом в истории защиты детей.
Она обратилась за помощью к Генри Бергу — активисту и основателю Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA).
Именно он, человек, спасавший лошадей от избиений и кошек от отлова, согласился:
«Если ребёнка нельзя защитить как человека — давайте защитим её как животное».
На суде Мэри Эллен вышла в лошадиной попоне, чтобы визуально подчеркнуть абсурд ситуации:
раз общество готово защищать животных, но не признаёт страдания ребёнка — пусть тогда хотя бы животное в человеческом обличье получит защиту.
Иск был удовлетворён. Девочку изъяли из семьи и поместили в заботливую опеку.
А сразу после этого дела в 1875 году было основано Нью-Йоркское общество по защите детей — первая организация в мире, поставившая своей задачей защиту прав ребёнка.
Это был прорыв.
С тех пор общественное сознание медленно, но неотвратимо начало сдвигаться: детство переставало быть собственностью взрослых — и становилось ценностью, требующей охраны.

Мэри Эллен Конолли - девочка, случай жестокого обращения с которой стал первым в истории защиты прав детей на законодательном уровне в Америке.
США, 1874 год.
США, 1874 год.
Подведем итоги. Мы, родители, в норме заботимся о физическом здоровье ребёнка. Почему же тогда до сих пор применяем стратегии воспитания, пагубно влияющие на его психику?
В большинстве случаев — по неведению, из-за непонимания, какими разрушительными последствиями оборачиваются эти «воспитательные меры».
Детская психология и нейронаука не устают повторять нам, людям XXI века: безопасная среда, надёжная привязанность и уважительное отношение к ребёнку — это не награда за хорошее поведение. Это базовая необходимость.
Создание и поддержание здоровой психологической среды — биологическая потребность, основа для формирования целостной и здоровой личности.
Автор : Анастасия Дивеева
В большинстве случаев — по неведению, из-за непонимания, какими разрушительными последствиями оборачиваются эти «воспитательные меры».
Детская психология и нейронаука не устают повторять нам, людям XXI века: безопасная среда, надёжная привязанность и уважительное отношение к ребёнку — это не награда за хорошее поведение. Это базовая необходимость.
Создание и поддержание здоровой психологической среды — биологическая потребность, основа для формирования целостной и здоровой личности.
Автор : Анастасия Дивеева